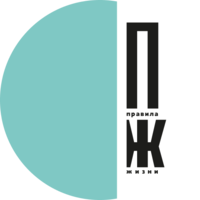Между строк
Больных редчайшими заболеваниями в России не лечат. Им ставят неправильные диагнозы, на них не выделяют квоты в больницах, фонды не собирают для них денег, а нужные им лекарства не внесены в реестр разрешенных препаратов.
Для удобства всех чиновников РФ скрытый между строк смысл выделен цветом.
София Мышкина
Возраст: 1,5 года.
Место жительства: Пермь.
Диагноз: недостаточность биотинидазы.
Эпидемиология: в России диагностированы 8 человек.
История болезни. Люция Мышкина, мама Софии: «Мой сын умер в 2005 году с неправильно поставленным диагнозом. Ему было меньше года. Через две недели после его рождения я заметила странные симптомы: у него была странная мимика, он неожиданно вскрикивал и временами как будто смеялся каким-то взрослым голосом. Потом начались судороги: мой ребенок цепенел на несколько секунд, у него останавливался взгляд. Через месяц такие приступы случались по 12 раз в день. Мы обратились к неврологу, она сразу поставила диагноз эпилепсия, и нас положили в городскую неврологическую больницу имени Пичугина. Томография выявила отек и дистрофию головного мозга, которые не свойственны эпилепсии, но врачи собрали консилиум и в результате все равно подтвердили первоначальный диагноз. Терапия не давала ровно никакого эффекта, мальчику становилось все хуже и хуже, нас переводили из больницы в больницу, и на протяжении восьми месяцев мой ребенок практически не вылезал из лечебных учреждений.
Когда ему исполнилось девять месяцев, от нас отказались все врачи. Главврач по неврологии и эпилептологии больницы имени Пичугина, Михаил Вшивков, сказал мне: "Крепитесь и будьте готовы к его смерти". Нас не брали ни в одну больницу, в итоге я научилась делать уколы, чтобы зря не связываться со скорой, — сама обкалывала сына седуксеном и реланиумом. Я просила отправить нас в Москву, но неврологи говорили, что "все развивается согласно поставленному диагнозу". В десять месяцев он перестал дышать, впал в кому на девять дней, а потом умер.
Через полтора года я опять забеременела. Начала консультироваться с врачами — сын был моим первым ребенком во втором браке; от первого мужа у меня тоже есть сын, и с ним все в порядке, но я боялась, что на этот раз все повторится. Врачи меня успокаивали и говорили, что хоть эпилепсия иногда наследуется, надо надеяться, что это был единичный случай. При этом ни у меня, ни у мужа эпилептиков в роду нет, мы проверяли. Биохимический скрининг и трехмерное УЗИ были в порядке. Когда я захотела сделать дополнительные анализы и попросила обследовать мужа, мне сказали, что показаний к этому нет. В 2008 году у нас родилась дочь София: вес — 3630 граммов, здоровенькая. Я попросила в роддоме сделать дочке УЗИ головного мозга. Никаких отклонений не обнаружили.
А когда Соне исполнилось две недели, я стала замечать за ней то же, что замечала за умершим сыном: странную мимику, вскрикивания. Потом она перестала просыпаться на кормление, и нас увезли в больницу с подозрением на ОРВИ. Через неделю у Сони выпали все волосы — такое было и у сына. Врачи сказали, что это проявление рахита, и посоветовали не волноваться. Мы стали давать ей витамин D, но волосы не росли. Как-то ночью у нее начались сильные судороги, и нас перевели в то же отделение неврологии, к тем же врачам, которые пытались лечить моего сына.
В два месяца Соне сделали томографию, которая выявила дистрофию мозга и гидроцефалию. Врачи сказали, что картина еще хуже, чем была с сыном. Опять нам выписали противоэпилептические препараты. Но на этот раз я постоянно сидела в интернете — и в какой-то момент случайно наткнулась на описание генетических заболеваний обмена веществ. Симптомы одного из них были очень похожи на то, что было у Сони, и я записалась на прием в Пермский центр генетических исследований. Но там могли сделать только анализ мочи ребенка, который никаких отклонений не показал. И только потом на вопрос, где можно сдать кровь на развернутый генетический анализ, мне рассказали про Медико-генетический центр в Москве. Я сидела в кабинете у нашего генетика и ревела, а мне, как будто раскрывая какой-то страшный секрет, рассказывали про московский центр. А потом добавили, что генетические болезни не лечатся, и государство такими больными не занимается, поскольку они — бесперспективны.
Я позвонила заведующей лабораторей болезней обмена веществ в Москве Екатерине Юрьевне Захаровой, и она уже по описанию симптомов поставила предварительный диагноз — недостаточность биотинидазы. При этой болезни не работает фермент, отщепляющий от белка, попадающего в организм, жизненно важное соединение биотин. Екатерина Юрьевна сказала, что вылечить эту болезнь нельзя, так как она наследственная, но если диагноз подтвердится, возможна поддерживающая терапия: если ребенку каждый день давать препарат биотин, он может жить нормально. Я расплакалась — от счастья, а еще от того, что поняла: мы могли спасти сына. Оказалось, что, когда мы давали Соне и ее братику все эти противосудорожные препараты, им от этого становилось только хуже.
Для назначения лечения нам рекомендовали обратиться в отделение неврологии в РДКБ. Но тут выяснилось, что квот по недостаточности биотинидазы в пермском Минздраве нет — ведь такой болезни даже в международном классификаторе нет. А без квот получить место в Москве невозможно. Спасло нас только то, что Соне, как и ее братику, ставили диагноз эпилепсия, а на нее квоты были. Вот так мы попали в РДКБ, где лечащим врачом у нас была Светлана Витальевна Михайлова, которая диагностировала уже 8 детей с недостаточностью биотинидазы. Она назначила лечение биотином.
Проблема в том, что биотин в России не сертифицирован и, соответственно, не продается. Я была у министра здравоохранения Пермского края, умолила секретаря передать бумаги по делу моей дочери. Через 20 минут она вышла из кабинета начальника — на уголке одной из бумаг стояло: "Обеспечить препаратом, срочно решить вопрос". Но от этой резолюции биотин в продаже не появился. Потом я получила официальный ответ: "Уважаемая Люция Владимировна! В соответствии с действующим законодательством о лекарственных средствах могут производиться, продаваться и применяться в лечении препараты, зарегистрированные в стране. К сожалению, в настоящее время мы не можем обеспечить Вашу дочь лекарственным средством, так как оно не зарегистрировано на территории РФ". То есть делайте с дочерью, что хотите, мы вам помочь не сможем.
Первый курс биотина нам передали из Киева. Он там продается без рецепта, и я понять не могу, почему нельзя его сертифицировать. В конце концов, детей с таким заболеванием в России — 13 человек, а вообще-то, наверняка, гораздо больше, но не всем установили правильный диагноз. И у каждого из них, как у моей Сони, были судороги и поражение головного мозга. А биотин все эти симптомы снимает, причем, поверьте, довольно быстро. По моим ощущениям, через две недели после приема Соне стало гораздо лучше. С помощью биотина она за три месяца догнала в развитии сверстников. Соне дали инвалидность в июле 2009 года, но сказали, что если в 2011 году она догонит сверстников, инвалидность снимут: она будет считаться "лекарственнозависимой". Но ведь если ее лишить лекарства, то у нее все начнется заново!
Биотин нам привозит из Германии девушка по имени Юля Горохова, которая регулярно там бывает. Месячный курс стоит 4000 рублей. Еще биотин можно покупать на Украине, но там меньше дозировка, соответственно, нужно покупать больше лекарства, и стоит оно дороже. Но проблема даже не в деньгах, а в том, как его регулярно доставать. Если Юля перестанет ездить в Германию, я не знаю, что делать. Когда мы еще лежали в РДКБ, в июле 2009 года, врачи обратились в Росздравнадзор с просьбой разрешить ввоз биотина в больницу. Письмо отправили в июле 2009 года, ответ должен был прийти через два месяца, но его нет до сих пор. Врачи просили для нас 73 упаковки из Германии. Этого Соне хватило бы до пяти лет.
Сейчас я опять беременна. При первых же признаках я позвонила доктору Михайловой и сказала, что не хочу делать аборт, потому что борюсь за жизнь дочери, и пока успешно. Я поняла, что буду рожать. Хотя вероятность того, что у третьего ребенка тоже будет недостаточность биотинидазы, такая же, как и у первых двух, — 25%».
Лиза Лобан
Возраст: 6 лет.
Место жительства: Новосибирск.
Диагноз: синдром Пирсона.
Эпидемиология: единственный человек, диагностированный в России.
История болезни. Наталья Лобан, мама Лизы: «Когда дочке было три месяца, она вдруг стала отказываться от еды, и у нее неожиданно изменился цвет кожи — была румяная, стала бледная. В шесть месяцев общий анализ крови показал, что у Лизы очень понижен гемоглобин. Нас направили на обследование в отделение онкогематологии детского центра в Краснообске, где Лизу стали лечить от железодефицитной анемии. Но лучше ей не становилось, она, как и раньше, была слабой и очень бледненькой. В десять месяцев ей сделали пункцию костного мозга и поставили диагноз — апластическая анемия. Лизе проводили курсы сильных иммунопрепаратов, но лучше ей не становилось, и, когда ей исполнилось два, мы по квоте Департамента здравоохранения Новосибирска поехали в Москву, в РДКБ. Там, в отделении общей гематологии, нам провели дополнительное обследование и подтвердили диагноз. Заведующий отделением, Михаил Александрович Масчан, сказал, что у Лизы, скорее всего, приобретенная апластическая анемия, костный мозг не работает, лечение к ощутимым результатам не привело и есть один выход — трансплантация костного мозга.
Когда Лизе исполнилось три года, ей сделали пересадку от донора из Германии, но потом начались осложнения. Генетический анализ Лизиного костного мозга, взятого у нее до пересадки, показал, что диагноз ей все-таки поставили неправильно — на самом деле у нее синдром Пирсона. Это заболевание обусловлено мутацией митохондриальной ДНК, и для него, действительно, характерны поражение костного мозга и поджелудочной железы. Но ТКМ при синдроме Пирсона не делается — слишком высока вероятность летального исхода. У Лизы же костный мозг прижился, Михаил Александрович говорил мне, что сам не понимает, как так получилось, что она выжила.
После трансплантации Лиза проходила гормональную терапию, из-за которой на обоих глазах у нее развилась катаракта. Фонд "Подари жизнь" отправил нас в клинику в Ганновер, где Лизе сделали операцию по замене двух хрусталиков. Когда мы вернулись в Россию, у нее началось ухудшение по основному заболеванию — желудочно-кишечные проблемы, диарея, которая обернулась обезвоживанием и нарушением электролитного баланса. Резко упал уровень кальция и калия, начались судороги. Но нас не могли госпитализировать, потому что квоту на лечение в РДКБ нужно было запрашивать в Новосибирске. Моя мама пошла в Департамент здравоохранения, так ее чиновница просто выгнала, сказала: "По такому заболеванию квот нет, уходите!" Квот по синдрому Пирсона вообще нет в России — в списках заболеваний он не числится, Лиза ведь такая одна на всю страну. Были еще трое с этим диагнозом, но они умерли.
В итоге в РДКБ Лизе без всяких квот разрешили поставить капельницы с ударными дозами кальция — иначе она бы просто умерла. А в мае 2009 года мы вернулись в Новосибирск, и тут нам выдали список из 20 препаратов, которые Лизе надо пить всю жизнь: гидрокортизон, антибиотики, витамины, магний Б6, сода бикарбонат в таблетках, элькар, канефрон, фетализин... Из всего списка бесплатно нам выдают всего четыре препарата, самых дешевых. Несмотря на то что эти лекарства я должна получать раз в месяц, за полгода мне их выдали всего три раза, а вместо кальция Д-3 дают компливит, и теперь Лизе приходится пить по восемь таблеток одного только компливита в день, чтобы получить хоть какое-то количество кальция. При этом жизненно важные для нее препараты, соду бикарбонат в таблетках и каексалат, необходимый для поддержания электролитного баланса, нам привозят из Германии — в России они не зарегистрированы. Сода у нас продается, но только в растворах для внутривенных переливаний — и что же, Лизе всю жизнь под капельницей лежать?
Специфика синдрома Пирсона такова, что в любой момент может случиться осложнение по любому органу, и поскольку основное заболевание не лечится, приходится постоянно лечить его последствия — то остеопороз, то почки, то поджелудочную железу, то проблемы центральной нервной системы, и так далее. Из-за нарушения электролитного баланса и переизбытка калия у Лизы начались осложнения с сердцем. Ей требуется аппаратное лечение по постоперационной стимуляции сетчатки, у нее зрение после операции должно было восстановиться на 70%, а восстановилось пока только на 50%. У нее посажены почки, а из-за недостатка кальция развился остеопороз и случился компрессионный перелом позвоночника, так что она ходит в жестком корсете. В месяц на лекарства у нас уходит около 20 000 рублей. При этом почти все приходится оплачивать самим. Когда я ходила в Департамент здравоохранения, просила хотя бы лекарства оплатить, мне сказали: "У вас очень дорогое лечение, у нас на это денег нет".
Я нигде не работаю, потому что мы с Лизой постоянно мотаемся по больницам. Муж ушел из семьи, когда Лизе было четыре, но сейчас вернулся, работает кладовщиком, получает 9000 рублей. Мои родители, сестра, подруги — все скидываются раз в месяц, и мы покупаем лекарства. В Департаменте соцзащиты нам выделили единовременную помощь — 15 000 рублей. И все. По инвалидности Лиза получает 7000 рублей, мне платят 1000 рублей по уходу за ребенком-инвалидом. Еще мы получаем губернаторскую субсидию — 200 рублей в месяц».
Татьяна Б.
Возраст: 25 лет.
Место жительства: Люберцы.
Диагноз: болезнь Шарко-Мари-Тутта.
Эпидемиология: в России диагностированы 20 человек.
История болезни. Татьяна Б.: «У меня очень слабые руки и ноги: идет атрофия мышц, пальцы на руках кривые, а шевелить пальцами ног я вообще не могу. В три года я стала ходить, не как все дети, — переваливалась. Родители побежали по врачам. Сначала им сказали, что у меня изменения после полиомиелита, потом — что мне сделали прививку во время ОРЗ и появились осложнения. Но мышцы на ногах продолжали истончаться, то же самое началось с руками. И тут в городе Белореченск, где мы жили, совершенно случайно нашелся врач-невролог, который заподозрил у меня болезнь Шарко-Мари-Тута.
Проблема была в том, что нам никто не сказал, что заболевание это наследственное. Я об этом и не догадывалась, пока муж случайно не прочитал в интернете. Мы на всякий случай пошли к генетикам, которые нам сказали, что болезнь может передаться ребенку с вероятностью 50%. Когда я была беременной, мне делали биопсию ворсинок хориона. Результатов мы ждали месяц — это был самый страшный месяц в моей жизни. И никто в Краснодаре мне не объяснил, что генетический анализ "на передачу" я могла сделать, когда еще не была беременной. Тогда бы мне не пришлось мучиться и ждать до 12 недель беременности, чтобы сделать биопсию. А потом еще месяц не спать и не есть.
Не дожидаясь результатов диагностики, мы поехали в Москву, в Медико-генетический центр, на консультацию к Елене Леонидовне Дадали. Она предположила, какой именно ген из моего "набора" мутировал, и мы сделали анализ крови на ДНК. Ген обнаружили сразу же — если бы этого не произошло, мне пришлось бы сделать 20 анализов, чтобы проверить все типы наследования, а один анализ стоит 10 000 рублей, и государство, конечно, их не оплачивает. Оказалось, что тот вариант невральной амиотрофии, который есть у меня, наследуется по аутосомно-рецессивному типу, и вероятность, что мои дети будут болеть, минимальная. Но ДНК-анализ плода все равно провели. Как и предполагалось, моя девочка оказалась здоровой носительницей мутации.
Инвалидность мне дали в восемнадцать лет — первую группу, которую я подтверждала раз в три года. Помню, когда я вышла замуж и в очередной раз пришла на комиссию, то меня как-то придирчиво спрашивали, как я хозяйство веду. Видимо, решили, что, раз я замуж вышла, то все сама делать могу. Но подумали и инвалидность оставили. Государство мне никак не помогает — я получаю пенсию в 4800 рублей, хватает купить еды на полмесяца, и все. Три года назад мы переехали в Люберцы — здесь у меня живет тетя, а муж нашел работу. Никаких льгот у меня нет, поскольку нет прописки. Когда я была беременная, мне даже временный полис не дали — велели ехать на Кубань и там все получать.
Я не могу здесь, в России, выйти сама на улицу. Здесь все для меня неудобно устроено — всюду ступеньки, на переходах я через бортик перешагнуть не могу. Мне все время надо, чтобы рядом кто-то был. Я привыкла к своему состоянию, хотя хожу под ручку с мужем, поскольку могу упасть на ровном месте — иду-иду, вдруг нога подгибается, сразу слабость, и все.
Моя болезнь прогрессирует медленно. Елена Леонидовна говорит, что все развивается индивидуально и предсказать ничего нельзя. Сейчас я хочу поступить на заочное, выучиться на психолога. Есть такое в моих планах».
Петр В.
Возраст: 6,5 лет.
Место жительства: Москва.
Диагноз: синдром Бругада.
Эпидемиология: в России диагностированы 30 человек.
История болезни. Елена В., мама Петра: «У Пети были небольшие отклонения на электрокардиограмме при плановом осмотре. Поскольку Пете скоро идти в школу, мы решили зайти к кардиологу, который направил нас в Центр синкопальных состояний и сердечных аритмий при 38-й больнице. Там у Пети выявили AV-блокаду первой степени "непонятного происхождения" и порекомендовали проводить дальнейшие исследования — в первую очередь, Холтеровский мониторинг, то есть полную ЭКГ за одни сутки. Мониторинг Пете сделали в Центре сердечных аритмий и после дополнительных обследований и изучения ЭКГ родственников поставили диагноз — синдром Бругада. При этом выяснилось, что такие же сбои в работе сердца, как у Пети, есть и у моего мужа, Андрея.
В классическом варианте синдром Бругада — это патология натриевых каналов, которая приводит к нарушению сердечной проводимости. Нам повезло в том, что у Пети синдром был диагностирован настолько рано. Взрослым людям поставить диагноз крайне трудно — изменения в обычной кардиограмме незначительны, в момент бодрствования человек себя прекрасно чувствует, а потом неожиданно, в состоянии покоя, начинается фибрилляция сердечных желудочков, и больной умирает во сне.
После того как Пете поставили диагноз, нас направили на консультацию к генетику — природа этого заболевания наследственная. Генетический анализ мы сдали на прошлой неделе. Искать мутацию в гене натриевого канала будут в течение месяца. Не найдут — будут искать дальше, анализировать другие гены. Медико-генетический центр — единственное место в России, где можно сделать такой анализ, причем за собственные денньги. При этом для Пети нет поддерживающей терапии, единственное, что могут сделать медики, — поставить кардиовертер-дефибриллятор. Проблема в том, что очень трудно понять, насколько в данный момент для Пети опасен этот синдром. Сейчас наши врачи консультируются с коллегами из Испании — ведь братья Бругада, которые открыли синдром в 1990-е, испанцы. Вполне вероятно, нам скажут, что дефибриллятор надо ставить срочно. А ведь его надо имплантировать в область сердца. Но только он может прекратить фибрилляцию желудочков, послав электрический разряд. Это лекарство от смерти.
Стоит он 150 000 рублей. В Питере был пациент тридцати лет с синдромом Бругада. Сначала он потерял сознание за ужином, потом — на работе. Врачи предположили инфаркт, но соответствующих изменений на ЭКГ не увидели. После не знаю какого обморока один из докторов заподозрил у пациента синдром Бругада, но сделать ничего не смог, поскольку у того не было денег на установку дефибриллятора. Я читала про это в интернете, так и было написано: "Постановка дефибриллятора не рассматривалась по экономическим соображениям". Ему назначили какое-то лекарство, которое не помогло, и через полгода он умер во сне.
Сейчас Петя чувствует себя хорошо, но в этом и есть смысл заболевания — внезапная, необъяснимая остановка сердца. Когда он спит, я, конечно, волнуюсь, подхожу к нему, смотрю, как он дышит. Но он ведь и в садике днем тоже спит, а там никто не знает про его заболевание — зачем это нужно? Я не хочу, чтобы к нему относились как к инвалиду, не хочу, чтобы он сам считал себя больным. У моих родителей слабое здоровье, у папы — проблемы с сердцем. Им я тоже ничего про сына не рассказывала».
Вероника и Лев Багины
Возраст: 38 лет и 9 лет.
Место жительства: Москва.
Диагноз: синдром Штрюмпеля в сочетании с торсионной дистонией.
Эпидемиология: в России диагностированы 5 человек.
История болезни. Вероника Багина: «В детстве мне постоянно ставили ДЦП. Когда я родила, у меня начались явные ухудшения — до этого я худо-бедно ходила, а после родов у меня частично парализовало правую руку и ходить стало сложнее, начались проблемы с почками, седалищным нервом и позвоночником.
Я жила в Перми, и лечили меня там совершенно обычно — массажи, путевки на курорты, если удавалось их достать. Мной занималась мама — она врач, я ее похоронила недавно. Когда моему сыну Леве было семь месяцев, она заметила, что он как-то странно сидит — спину не держит, заваливается. То есть до семи месяцев он нормально развивался — и ползал, и в кроватке стоял, а потом все ухудшилось. Мы отвели его к ортопеду, и тот поставили Леве предварительный диагноз — ДЦП. Но в два года он еще как-то ходил, мы с ним на пятый этаж даже поднимались. Сейчас он передвигается в ходунках или на коленках ползает. Но он говорит, он умненький, даже умеет пользоваться компьютером.
Училась я в Москве — в Государственном специализированном институте искусств. Там и познакомилась с его отцом, мне было 27, ему — 45, он у нас позировал. Я забеременела, оставила у него вещи и уехала в Пермь — рожать. Но ребенка он не признал. Я не стала заставлять его делать анализ крови на ДНК, не пошла в суд за алиментами — и теперь мы с Левой живем вдвоем. Я справляюсь, хотя могу делать все только одной рукой, левой.
Когда мама умерла, я продала квартиру, и мы с сыном переехали из Перми в Москву. В первый раз я показала его генетикам пять лет назад: ему поставили диагноз — спастическая параплегия нижних конечностей, она же синдром Штрюмпеля. Это генетическое заболевание нервной системы, которое поражает проводящие пути в спинном мозге. Окончательный диагноз мне и сыну поставила Елена Леонидовна Дадали в этом году. Оказалось, что у нас очень редкое наследственное заболевание — спастическая параплегия в сочетании с торсионной дистонией. Таких семей в мире описано всего несколько. Ген заболевания картировали на хромосоме, но пока не обнаружили. Для этого нужны большие деньги.
Леве дали инвалидность, но регулярно нам никто не помогает: только раз в три месяца оплачивают курс инъекций для улучшения мышечного тонуса в Институте медтехнологий — я подаю заявку в Российский фонд помощи инвалидам, и они собирают Леве денег. Организаторы "Рождественской акции" для детей-инвалидов подарили сыну специальный велосипед, с креплениями на педалях.
Он трехколесный — я пристегиваю сына, и он очень рад. Жалко, только летом кататься на нем можно. Еще я его вожу в бассейн — он бесплатный, только добираться самой приходится. Но мы уже привыкли, главное — в лифт Леву одной рукой в коляске закатить, дальше — проще.
В месяц Леве по инвалидности платят 8000 рублей, плюс «лужковские» 4000. Я получаю по уходу 4000 рублей, плюс моя пенсия — те же 4000. Нам, конечно, на двоих не хватает — я узнавала недавно, в центре иглоукалывания один сеанс стоит 2600 рублей. Курс для разрабатывания мышц ног — 10 сеансов. Вот коплю для Левы, откладываю. Купила массажный стол, чтобы два часа по пробкам Леву на такси не возить. В прошлом году управа «Северное Медведково» выделила для Левы разовую помощь в 26 000 рублей — хватило на месяц массажа. В этом году нам не выделили пока ничего. Ему надо заниматься лечебной физкультурой, но у меня нет сил сажать его на мяч, развивать ему спину. Я обращалась в службу соцзащиты с просьбой организовать занятия на дому, но мне сказали, что возможности нет.
В Институте медтехнологий Леве прописывают мильгамму и церебрум-композитум — они вроде бы бесплатные, но в аптеках по бесплатным рецептам бывают редко, и приходится их за свой счет покупать. Эти лекарства надо колоть внутримышечно каждый день, но мне левой рукой уколы ставить неудобно, она у меня дергается. Приходится просить добрых людей. Я понять не могу, почему к нам не могут направить медсестру, которая хотя бы уколы сыну делать будет. Несколько раз, по своей инициативе, Леве делала уколы сотрудница из Департамента соцзащиты — у нее у самой внуки, так она по дружбе нам помогала. Она же, кстати, и в бассейн Леву записала — в группу к пенсионерам, с которыми сама занимается».
Полина Данилюк
Возраст: 2 года.
Место жительства: Иркутск.
Диагноз: недостаточность орнитинтранскарбамилазы.
Эпидемиология: единственный человек, диагностированный в России.
История болезни. Екатерина Данилюк, мама Полины: «У Полины генетическое нарушение обмена веществ: из-за того что плохо работает фермент, который необходим для выведения аммиака, он накапливается в организме. При норме в 40 единиц уровень аммиака у нее доходил до 13 000.
Началось это у нее в полтора года, когда я перестала кормить ее грудью. С рождения Поля страдала пониженным аппетитом, плохо набирала вес, но в целом была здоровой девочкой. Через четыре дня после того, как я прекратила грудное кормление, Поля заболела вирусной инфекцией — ее старший брат заразил. У нее долго держалась высокая температура, ей назначили прием антибиотика флемоксин, температура упала, но через четыре дня опять подскочила. Поля опять стала вялая, совсем перестала есть — только чуть-чуть молока из бутылки попьет, и все. И стала заметно хуже ходить. Потом она перестала вставать — только сидела у меня на руках. Педиатр сказал, что инфекция, по-видимому, дала осложнение — пневмонию. Опять назначили антибиотики, опять ненадолго стало лучше — дня на три, не больше. Потом истерика началась — Поля кричала круглыми сутками. Маленько глаза закроет, поспит минуты три, и опять в крик.
На этот раз педиатр предположил менингеальные симптомы: направили нас в городскую инфекционную больницу Иркутска, но там нас не приняли, сказали, что у Поли недолеченная бронхопневмония, и отправили в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. Там нас осмотрели все врачи, и ЛОР сказал, что у Поли отит. Ей пропунктировали ухо и положили в ЛОР-отделение. Давали сильные антибиотики, делали "кукушку" — болезненное промывание, на фоне которого у нее начался бронхоспазм. Она стала кричать не переставая, и еще у нее живот увеличился, а как только я ее на ножки ставила — она падала. Я жалуюсь заведующей ЛОР-отделением на крики, а она говорит: "Давайте еще раз ушки проколем". Я кричу: "Невролога позовите! Педиатра! Надо же что-то делать, мы же в больнице!" И вот Поля кричит и днем, и ночью. Нам сделали ингаляции против бронхоспазмов, но крики продолжились. Уши пропунктировали еще раз — но ребенок кричит, как раньше. Пришла педиатр, посмотрела Полю и говорит: "Попейте пустырник, и все будет нормально". Сразу после этого нас стали на выписку готовить — а Поля на руках у меня обвисает и кричит. Я еще раз попросила отправить нас на консультацию к неврологу, но мне сказали: "У нас неврологи в другом здании, мы вас туда не повезем. Отит мы вылечили, а переводить вас в отделение неврологии или нет, должна решать педиатр Копылова. Девочка просто устала болеть, у нее — психоневротическое состояние, езжайте домой, там ей лучше будет".
Мы легли в больницу 19 ноября, выписались — 24-го. В тот же день у Поли началась страшная рвота, чуть не умирает. Я звоню педиатру и говорю: "Ну вот, выписали нас, но лучше-то не стало, только хуже". Пришли мы на следующий день, Поля, как воротник, на мне висит. Невролог посмотрела на нее — и скорую помощь вызвала. Отправили нас в ту же Ивано-Матренинскую больницу, в отделение неврологии. Врачи ее осмотрели, но Поля ни на что уже не реагировала — ни на шум, ни на движение. Только лежала и дышала. Нас сразу положили в реанимацию, забегали все кругом, стали собирать анамнез. Я говорю: "А чего его собирать, если нас только вчера из вашего же ЛОР-отделения выписали". Стали выяснять, как нас могли в таком состоянии выписать. Положили в соматическую реанимацию, истерические крики прекратились, стало получше, а потом Поля впала в патологический сон. Очередное обследование выявило увеличение печени на 5 сантиметров, увеличение почек, селезенки, камни в желчном пузыре. Мы сдали печеночные пробы АСТ-АЛТ, и они были в 30 раз выше нормы.
Два месяца Полю продержали в реанимации. Врачи собирали консилиумы, на которых были и главный невролог области, и главный инфекционист, и главный генетик. Именно он заподозрил нарушение обмена веществ, но не мог понять — какое. Подробных генетических анализов у нас в Иркутске не делают. Стало понятно, что Поле надо делать биопсию печени, и в декабре мы подали заявление на квоту по острой печеночной недостаточности, чтобы поехать в Москву. В середине января наконец пришел вызов из РДКБ — сначала мы попали в отделение гастроэнтерологии, поскольку печень у Поли увеличилась еще больше. У нее была постоянная рвота, и в Москву мы летели с врачом медицины катастроф.
В РДКБ наш лечащий врач Светлана Витальевна Михайлова поняла, что все дело в обмене веществ. Диагноз недостаточность орнитинтранскарбамилазы нам подтвердили в марте этого года в Медико-генетическом научном центре, после чего нам назначили препараты, которые связывают аммиак — шведский аммонакс и английский амбутират. Но они не зарегистрированы в России, так что достать их мы пока не можем. Сейчас вернулись в Иркутск и выбиваем разрешение на их ввоз. Я ходила в иркутский Минздрав, но Татьяна Юрьевна Королева, ответственная за лекарственное обеспечение, мне сказала: "Вам в РДКБ этот препарат назначили, пусть они вопрос и решают". И еще добавила: "Мы от вас защищены законом". Мол, если препарат не разрешен на территории России, то какие могут быть еще вопросы?
Муж уже ходил и в приемную Путина, и к министру здравоохранения в Иркутске, и в Красный Крест. Сейчас ждем ответа из Минздрава. Единственное, что Поля принимает, — это хоть как-то выводящий аммиак из организма аргинин, не лекарство даже, а биологически активную добавку. В Иркутске ее нет, я ее в Москве еще покупала: упаковка стоит 1000 рублей.
Я не работаю. Муж был мастером-монтажником в строительном управлении, но его в связи с кризисом отправили в отпуск за свой счет. Сейчас ждем, пока появятся деньги на анализ сыну».
Лев Андрюхин
Возраст: 3 года.
Место жительства: Рязань.
Диагноз: апластическая анемия Даймонда-Блекфена.
Эпидемиология: в России диагностированы 10 человек.
История болезни. Мария Андрюхина, мама Льва: «У меня были очень неудачные роды — кесарево сечение, отслойка плаценты. Ребенок родился восьмимесячным, и его сразу отправили в отделение для недоношенных детей. Лева лежал в этом отделении полтора месяца, и у него постоянно снижался гемоглобин — врачи никак не могли понять, почему. Гематологи из областной клинической больницы сказали, что сыну срочно надо перелить кровь — гемоглобин у него уже был 60, мальчик был серого цвета, его рвало. Перелили кровь, уровень гемоглобина поднялся до нормального уровня 120, и нас выписали домой, поставив предварительный диагноз гемолитическая анемия и велев наблюдаться в местном отделении московского Гематологического института. Мы сдавали анализы раз в неделю — гемоглобин падал. Через полтора месяца Леве опять перелили кровь и сделали пункцию костного мозга, которая выявила угнетение красного ростка — собственные эритроциты в крови Левы вообще не вырабатывались. Тогда заподозрили апластическую анемию.
В декабре 2007 года нас отправили в Москву, в РДКБ. Там взяли анализы и сказали, что у Левы редкая апластическая анемия Даймонда-Блекфена. Выписали курс лечения гормональным препаратом преднизолон, который должен был поддерживать уровень гемоглобина в крови, но это не помогло — гемоглобин по-прежнему падал, Лева не мог есть, его все время рвало. С тех пор ему регулярно переливают кровь — сначала гемоглобин растет до 130, потом постепенно снижается до 70. Чужих эритроцитов Леве хватает ровно на месяц — месяц проходит, и мы опять переливаемся, число в число, день в день. Последний раз Леве делали переливание 14 апреля. Ему стало очень плохо — произошло отторжение крови, поднялась температура под сорок. Врачи сказали, что не знают, почему так получилось — либо аллергическая реакция на белок, либо уже слишком много переливаний крови было сделано. Проверить это можно будет только после следующего переливания.
Переливания вечно делать нельзя, это тяжелая нагрузка на организм. Врачи говорят, что единственный способ избежать постоянных переливаний — это пересадка костного мозга. Михаил Александрович Масчан из РДКБ сказал, что сделал бы трансплантацию, но только от родного брата или сестры. Но Лева — наш первый ребенок, нет у него ни брата, ни сестры, а риск неродственной трансплантации в нашем случае выше, чем риск переливаний. Мы обращались к генетикам, мы хотим второго ребенка, но никто не может дать нам гарантий, что он не унаследует от меня или от мужа эту болезнь. И тогда трансплантация будет бессмысленной. Вероятность передачи — 25%. Так как мне делали кесарево сечение, врачи сказали, что мне можно рожать только еще один раз. А сделать "ребенка в пробирке", подходящего по фенотипу, но без болезней, в России не могут.
Корректировать фенотип и "убирать" мутацию гена могут только в одном месте — в Чикаго, в Институте репродуктивной генетики этим занимаются Юрий Верлинский и Анвер Кулиев. Я созванивалась с сыном Юрия Верлинского, тоже ученым-генетиком, Олегом, и он сказал, что работать с нами они смогут только после того, как мы с мужем сделаем генетические анализы. В Медико-генетическом центре в Москве у нас с первого же раза обнаружили ген, ответственный за передачу анемии Даймонда-Блекфена. По словам генетиков, "риск рождения второго ребенка с таким же заболеванием не превышает общепринятого". Здесь нам не сделают идеального эмбриона, подходящего по HLA-типу Леве в качестве донора. На ранней эмбриональной стадии такое можно сделать только в Чикаго, так что будем ждать ответа от Верлинского.
Я готова на все — и в Чикаго поехать, и второго ребенка родить. Лева перед каждым переливанием — серого цвета. Губы — синие. На ручки просится, устает быстро. Он до сих пор в коляске ездит, в три года.
Я не знаю, где мы возьмем деньги, чтобы в Чикаго ехать. Мой муж — военный, получает 24 000 рублей в месяц. Объявление дам, наверное, на телевидение — я этим способом уже доноров для сына искала. Правда, нам тогда мало кто звонил, и доноров мы нашли на станции переливания крови — заведующий помог, как узнал про нашу ситуацию. За границей целый сайт сделан для таких больных — есть фонд помощи, а у нас в России никто этим не интересуется. Как всегда — если ребенок болен, это забота родственников и родителей. А если редкий диагноз, тогда больной особенно никому и не нужен».
Лиза Кеня
Возраст: 9 лет.
Место жительства: Белгород.
Диагноз: врожденная мерозин-негативная прогрессирующая мышечная дистрофия.
Эпидемиология: единственный человек, диагностированный в России.
История болезни. Елена Кеня, мама Лизы: «С самого детства моя дочка плохо держала голову, не сидела. Умственно развивалась нормально, а физически — плохо. Лиза не ходит, передвигается на коленках. У нее не разгибаются до конца ни руки, ни ноги, и поясница как будто выгнутая. До сих пор она плохо держит голову, и у нее сильное нарушение вестибулярного аппарата. Сидит она сама, но у нее сколиоз четвертой степени, и без опоры ей сложно.
Лиза с самых первых месяцев жизни состояла на учете у невролога, и ей постоянно ставили разные диагнозы. Сначала предположили спинальную амиотрофию Верднига-Гофмана, потом — лейкодистрофию, потому что по результатам томографии в мозгу обнаружилось разрушение белого вещества (часть мозга, состоящая преимущественно из нервных волокон. — Правила жизни). В Казахстане, где мы жили, дела с медициной обстоят не так хорошо, как в России, и когда Лизе исполнилось пять, мы стали показываться другим врачам, российским.
В Воронеже мы попали на консультацию к генетику Федотову, и он поставил Лизе миелодистрофию — по внешним признакам. Однако точный диагноз нам поставили только в 2010 году в Медико-генетическом центре РАМН в Москве — мерозин-негативная врожденная прогрессирующая мышечная дистрофия.
Лизино заболевание наследственное. Оно не лечится. У дочери недавно началась эпилепсия, и можно только противоэпилептическими препаратами проводить профилактику судорог. Мы иногда ездим в санатории, и я даю ей общеукрепляющие препараты. Больше нет ничего. Сейчас Лиза принимает конвулекс, танакан, актовегин. Раньше нам больше выделяли — и церебролизин, и элькар — он хорошо ей помогал. Но сейчас список бесплатных лекарств ограничили, и приходится довольствоваться тем, что есть.
Инвалидность Лизе дали в Казахстане — до прошлого года она проходила ВТЭК (врачебно-трудовая экспертная комиссия, устанавливающая наличие, причины и степень инвалидности. — Правила жизни) раз в два года, а в последний раз ей дали инвалидность до 18 лет. Я — мать одиночка. С мужем мы были не расписаны. Когда Лизе был год и ей поставили первый диагноз, довольно неутешительный, он собрал вещи и сказал: "Лена, ты сильная женщина, сама справишься".
По уходу за ребенком я получаю 1200 рублей; 900 рублей платит пенсионный фонд в качестве единовременной выплаты, и 5574 рубля — Лизина пенсия. Но в нашем Департаменте соцзащиты мы получаем адресную помощь и субсидии на оплату жилья.
Я получаю все, что можно, родственников у нас совсем нет, мы живем вдвоем, и пока ни разу такого не было, чтобы мне отказали в том, что положено. Конечно, нам все равно не хватает, но по сравнению с Казахстаном наше положение не такое плохое. У нас хорошая социальная поддержка с реабилитацией: бесплатно выдают корсеты, ортопедическую обувь с жестким задником, аппараты для выправления ног, скоро должны выделить коляску с мотором.
Правда, на обследование в Москву я Лизу возила за собственные деньги. Квоту на лечение государство еще как-то оплачивает, а за обследование и консультации никто не платит. В Медико-генетическом центре нас проконсультировали бесплатно, но сказали, что для точного подтверждения диагноза нам надо делать анализ ДНК — так как это заболевание редкое, анализ очень дорогой, 91 000 рублей. Анализ крови у нас взяли, ДНК выделили, но мутацию в гене искать пока не начали — будем все вместе искать деньги. Я поеду в областной Минздрав — может, там помогут. Обещал выделить средства на проведение анализа и директор Медико-генетического центра академик Гинтер.
К мужу я за помощью не обращаюсь. Он бомжует сейчас, даже не знает, где мы живем, не хочу я его искать, а то сядет мне на шею, придется двоих тащить.
Сама я устаю, конечно. Эта зима тяжелая была, дом до окон заваливало снегом, приходилось каждое утро по несколько часов лопатой махать, чтобы машину откопать. Я всегда за рулем — коляска у нас никуда не входит, да и весит 18 килограммов, а таскать на себе и ее, и 25-килограммового ребенка я не в состоянии.
Жалко мне, что у Лизы такое заболевание — ребенок она смышленый, а пойти поиграть с друзьями не может. По этому заболеванию есть ограничения срока жизни, но я, конечно, надеюсь, что Лиза подольше проживет. Сколько могу дать ей — дам.
Мы активные с ней девушки, поем, рисуем. Она с четырех лет сидит за компьютером, умеет и читать, и писать, учится в третьем классе — дома, с учительницей, и получает только четверки и пятерки. С сентября вроде бы вступает в силу федеральная программа о дистанционном обучении, и тогда, надеюсь, Лиза сможет учиться при помощи компьютера».
Мария П.
Возраст: 27 лет.
Место жительства: Королев.
Диагноз: болезнь Шарко-Мари-Тутта IV типа.
Эпидемиология: в России диагностированы 6 человек.
История болезни. Мария П.: «Первые симптомы заметили мои родители, когда мне было 2,5 года. Я стала спотыкаться, падать, руки были очень слабыми. Участковый педиатр направила нас в больницу, где мне поставили первоначальный диагноз, миопатию, причем не на основании анализов, поскольку исследования проводить было негде, да и некому, а на основании общих симптомов. Мне ставили вакцинальный полиомиелит, нейроинфекцию и еще массу всего. Московские больницы отказались меня брать на лечение. Нам говорили, что не знают, что именно лечить, а главное — как. Мой дед, ветеран войны, написал письмо Евгению Чазову, который на тот момент был министром здравоохранения. С подачи Чазова меня отправили в физиотерапевтическую клинику на Остоженке, и с этого момента меня стали хоть как-то лечить: процедуры, массажи, даже отправляли на курорт в Евпаторию. Правда, десять операций, которые мне делали, родители оплачивали сами, все деньги уходили на лечение. Перед одной из них, в ЦИТО, ситуация была катастрофическая — я не могла ходить. Но операция помогла, и меня даже взяли на лечение в детскую психоневрологическую больницу № 1, хотя раньше врачи говорили моим родителям, что я вряд ли доживу до пяти лет. А еще говорили, что им нельзя иметь детей — они обязательно будут такими же, как я. Удивительно, но им даже не предложили сделать генетический анализ, хотя дело было в Москве.
Окончательный диагноз мне поставили только в 26 лет. До этого у меня предполагали болезнь Шарко-Мари-Тута 2 типа, которая, в отличие от гораздо более редкой разновидности 4 типа, может передаваться детям с вероятностью 50%. Год назад, когда я поняла, что несмотря ни на что хочу иметь детей, я нашла в интернете координаты Медико-генетического центра, и мне сделали анализ, который определил тип моей болезни — 4а.
Сейчас я работаю сетевым инженером. У меня атрофия мышц рук и ног, но это пока не мешает мне работать за компьютером. Благодаря операциям я могу ходить, но заметно хромаю; тяжести могу поднимать, но ходить с ними — сложно. Особенных проблем с тем, чтобы найти работу, не было — у меня же два высших образования. Но вот если я соберусь открывать свое дело, тогда на моем пути будет много препон — вряд ли мне дадут кредит, да и налоговая инспекция в Королеве не обустроена, она в подвале, а спуститься и подняться по крутой лестнице я не могу. В России вообще совершенно не продумана жизнь людей с ограниченными возможностями — например, нет автошкол, которые занимались бы специализированным обучением таких людей.
Прогноз развития болезни в моем случае неизвестен — я надеюсь, что хуже не будет. Лекарств от нее тоже нет, а лечение за границей я не потяну. Я взрослый человек и понимаю, что наше государство вряд ли вдруг решит мне помочь. У меня же не катастрофическая ситуация.
С редкими болезнями в России происходит вообще непонятно что. Когда мне было 15 лет, я лежала все в той же детской психоневрологической больнице № 1.
Родителям детей с мышечной атрофией главный врач говорила, что, дескать, в Австралии появилась уникальная методика, надо перечислить деньги на определенный счет, и их ребенка отправят на лечение. Это была настоящая финансовая пирамида — все родители детишек дали деньги, но отправили только пару человек — тех, чьи родители заплатили больше всего. Мои родители, помню, вложили в это дело 100 долларов, по меркам 1998 года приличные деньги. И им их, конечно, не вернули, всем остальным — тоже».
Диана Иващенко
Возраст: 2,5 года.
Место жительства: Апатиты.
Диагноз: лангергансоклеточный гистиоцитоз.
Эпидемиология: в России диагностированы 28 человек.
История болезни. Екатерина Иващенко, мама Дианы: «Когда Диане был месяц, у нее на спине появилась сыпь. Педиатр поставил диагноз аллергический дерматит, но, несмотря на то что я мазала ее мазями и держала на строгой диете, сыпь прогрессировала, в паху и в подмышечных впадинах появились гнойники, на голове — себорея. Ребенок постоянно простывал, и мы регулярно лежали в детской больнице в Апатитах с бронхитом. Лечились очень долго, но лучше Диане не становилось, и когда ей исполнился год, я решила съездить на консультацию в Петербург, в Педиатрическую академию. Там Диане сделали анализ крови, который показал пониженный уровень гемоглобина, и обследование легких, выявив пневмонию. Порекомендовали длительное обследование и перевели в НИИ онкологии имени Петрова.
Когда мы туда приехали, Диана уже не ходила ножками: у нее была сильная слабость. Ей поставили диагноз гистиоцитоз, проводили гемобластную терапию и переливания крови. Мы добились квоты от города Мурманска, чтобы начать лечение в Петербургском онкоцентре. Там диагноз был уточнен: злокачественное заболевание, лангергансоклеточный гистиоцитоз с поражением кожи, слизистых, костей, легких, печени, селезенки и лимфатических узлов. После годового лечения и двух блоков химиотерапии состояние Дианы улучшилось, и нас выписали с ремиссией. Но через полгода, на плановом обследовании, обнаружили рецидив. У нее на тот момент начал выпячиваться правый глаз, она стала выпивать по 10 литров воды в сутки. Обследование показало, что у Дианочки поражены кости черепа, на фоне основного заболевания выявили несахарный диабет. Помимо этого нашли очаговую опухоль в районе ножек, повреждение селезенки. Врачи приняли решение о ТКМ: химиотерапия не помогла, опухоли не уходят. Сейчас мы наблюдаемся в Институте детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой, сдали кровь на типирование и ждем результатов. Потом нужно будет искать донора для ТКМ, а это может стоить около 15 000 евро.
Диана ежедневно должна принимать гормон преднизолон и препарат минирин против диабета, упаковка которого стоит 2000 рублей, а хватает ее примерно на неделю. Я не работаю, и всю зарплату мужа мы тратим на лекарства для Дианы — чтобы нам их выдавали бесплатно, мне нужно ехать в областной Минздрав в Мурманске и самой добиваться льгот, а я этого сделать не могу — постоянно нахожусь при ребенке. Папа Дианы до недавнего времени был в командировке в Чечне, и с деньгами у нас, мягко говоря, не очень. По инвалидности Диане платят 4000 рублей в месяц, муж получает тысяч двадцать.
Мы потеряли много времени, пока врачи в Апатитах не могли поставить правильный диагноз. На данный момент дочь чувствует себя неплохо, но у нее держится температура и идут изменения в анализах крови. Я боюсь делать трансплантацию, врач сказал, что она проходит легче у тех детей, у которых вылечены все очаги опухолей, чем у тех детей, у которых эти очаги не проходят, как у моей Дианы».
Дамир Насыров
Возраст: 7 лет.
Место жительства: Майкоп.
Диагноз: синдром Костманна.
Эпидемиология: в России диагностированы 30 человек.
История болезни. Виктория Овчинникова, мама Дамира: «Проблемы у сына начались с первого месяца. Он вообще-то родился здоровый, прекрасный, весил 5 кг, рост — 59 см, ничто не предвещало беды. Когда ему исполнился месяц, у него образовался гнойник на лице, и нас положили в детскую больницу Армавира — на тот момент мы жили там, у моих родителей. Дамиру сделали операцию, нас выписали, но в три месяца ситуация повторилась. Никто из врачей тогда не обратил совершенно никакого внимания на то, что в лейкоцитарной формуле крови Дамира есть изменения. Потом мы переехали в Майкоп, и его лечили от всего подряд — от рахита, от гепатита...
Когда Дамиру исполнилось 9 месяцев, мы попали на экстренное лечение в Краснодарскую краевую детскую клиническую больницу — у сына был абсцесс печени, который надо было срочно оперировать. После операции мы пролежали в больнице 3 месяца — врачи никак не могли понять, что не в порядке с Дамиром. В итоге ему сделали пункцию костного мозга, провели детальное обследование, поставили диагноз — врожденная циклическая нейтропения, острый иммунодефицит — и отправили домой.
Майкоп — город маленький, республика Адыгея глубоко дотационная, поэтому ни о каких дорогостоящих препаратах речь изначально не шла. Единственный препарат, который мы получали бесплатно и который помогал Дамиру, был граноцит. Все было относительно нормально — правда, каждый месяц мы попадали в больницу. У Дамира хроническая пневмония, киста в легком, проблемы с сердцем — в общем, все заболевания, свойственные его болезни, врожденной патологии, тяжелому заболеванию крови с поражением функций костного мозга, которое выражается в остром иммунодефиците.
В прошлом году мы поехали на обследование в Краснодар, после которого по квоте Минздрава Адыгеи нам удалось попасть в Институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой. В ноябре там провели глубочайшее обследование Дамира и поставили новый диагноз — синдром Костманна. Встал вопрос о пересадке костного мозга, но врачи делать трансплантацию не рекомендовали, поскольку Дамир дает хорошую реакцию на медикаментозное лечение — граноцит и его отечественный аналог, лейкостим. В Майкопе я пошла в областной Минздрав, но когда встал вопрос о приобретении лейкостима, мне сказали: "Денег нет. Если мы вашему ребенку купим этот лейкостим, другие детки останутся без лекарств".
Совершенно случайно я нашла в интернете контакты компании "Биокад", которая производит лейкостим. Оказалось, что у них была программа, по которой дети, больные нейтропенией, в течение года бесплатно получали этот препарат. Нам выделили необходимое количество лейкостима, год мы жили замечательно. Но программа закончилась, а препарат нужен нам постоянно — в месяц уходит три упаковки, 15 ампул. Если мы проколем меньше, уровень нейтрофилов будет слишком низкий.
С деньгами на лекарство помогают родственники и друзья. Я воспитываю ребенка одна — муж ушел от нас, когда Дамир начал болеть. Нам нужно на год 180 ампул, при том что ребенок растет, набирает вес, соответственно, доза должна увеличиваться. Цена препарата — от 3700 до 5500 рублей за ампулу. Граноцит, который стоит еще дороже — до 45 000 рублей за упаковку, перестали нам выдавать три года назад. Он выведен из списка бесплатных лекарственных средств.
Мы никогда не покупаем препарат вовремя — следим, пока уровень нейтрофилов не упадет до критической отметки, и тогда уже начинаем колоть лейкостим. Я утром просыпаюсь и сразу бегу будить Дамира. Осматриваю рот — если нейтрофилы падают, на слизистой сразу появляются язвы. Каждые четыре дня мы сдаем анализы крови и живем как на пороховой бочке.
Государство не выделило нам лейкостим ни разу. Дошло до того, что я написала в Минздрав соцразвития РФ. Пришел ответ от директора департамента, Михайловой Д.О.: "Департамент предлагает принять меры по сыну Овчинниковой Виктории Тахировны по обеспечению необходимым лекарственным средством по медицинским показаниям в соответствии с установленными правительством РФ и органами субъектов РФ мерами государственной и социальной помощи. О результатах просим проинформировать автора письма и департамент".
Если Минздрав Адыгеи нам в очередной раз скажет, что средства изыскать не сможет, я не знаю, как быть. Я заложила квартиру. Мне советовали подавать в суд на Минздрав, но судиться с государством можно бесконечно, да и как оплачивать адвоката?! Я обращалась в благотворительные фонды. Весной я ездила в Москву, в РДКБ, и случайно услышала разговор двух мам в отделении гематологии — они упомянули фонд "Жизнь". Я принесла туда все документы и сказала, что нам жизненно необходимы три упаковки лейкостима. На следующий день нам их выделили, нейтрофилы поднялись, они пока держатся, но я знаю, что пройдет неделя-другая, они упадут, и опять будет нужно лекарство. Трагизм ситуации в том, что, если какому-то ребенку нужно собрать определенную сумму, допустим, на ТКМ, то Дамиру деньги собирать нужно постоянно, ведь препарат ему нужен пожизненно».
Алексей и Евгений Макашовы
Возраст: 27 лет и 22 года.
Место жительства: город Ворсма, Павловский район, Нижегородская область.
Диагноз: мукополисахаридоз VI типа (синдром Марото-Лами).
Эпидемиология: в России диагностированы 20 человек.
История болезни. Наталья Макашова, мама Алексея и Евгения: «Младший сын, Женя, пока хорошо себя чувствует, а старшего, Алешу, очень захлестнула эта болезнь. Он родился нормальным, здоровым ребенком, рос довольно-таки крепким, окончил школу, поступил в техникум и в 20 лет женился. На 21 году жизни я стала замечать, что он стал прихрамывать на одну ногу, и это меня очень обеспокоило. Мы с ним обратились в поликлинику, и нам, естественно, никто ничего особенного не сказал: дескать, начал так ходить — и начал, чего тут особенного? Диагноз не поставили, порекомендовали пройти обследование. Мы попали к профессору в областную больницу имени Семашко, и он поставил предварительный диагноз — мукополисахаридоз, не уточнив его тип. Сыну сказали, что заболевание крайне редкое, практически не лечится, нам показали страшные фотографии пациентов и советовали готовиться к худшему. При этом заболевании в организме отсутствует фермент, расщепляющий мукополисахариды, и они откладываются в мышцах, костях, внутренних органах, из-за чего происходит их деформация. На тот момент у сына продолжались проблемы с ходьбой — коленки становились все более согнутыми, а потом начались контрактуры локтевых суставов. Мы поехали в Москву, в Институт нейрохирургии Бурденко, где по великому знакомству Алеше сделали томографию и подтвердили диагноз. Но уточнить его смогли только в Медико-генетическом центре. Там двум моим сыновьям, Алеше и Евгению, поставили очень редкий, шестой тип мукополисахаридоза.
В мире с этим заболеванием борются с помощью ферменто-замещающей терапии. В 2006 году в Центре нам рассказали, что есть лекарство — наглазим, оно снижает уровень мукополисахаридов до приемлемого уровня, но тогда оно не было зарегистрировано в России. Я обратилась за помощью к президенту "Общества инвалидов, страдающих синдромом Хантера, другими формами мукополисахаридоза и иными редкими генетическими заболеваниями", Снежанне Митиной. Она сказала, что борьба за регистрацию этого препарата идет, и мы стали ждать. В 2009 году наглазим был зарегистрирован, и с 1 января 2010 года больным должны были начать лечение. Но лекарства на территории России до сих пор физически нет.
Алеша до марта работал в нашем ЖКХ мастером, но по состоянию здоровья был вынужден уйти. У него неуверенная ходьба, он часто падает. Чтобы хоть как-то облегчить свое состояние, постоянно ездит на массаж, проходит курсы иглотерапии, пьет витамины. А вообще, он умненький мальчишка, как и наш младший, Женя. Тот сейчас оканчивает пятый курс юридического факультета в Университете имени Лобачевского. Чувствует он себя хорошо, говорит: "Мама, я пока ничем не болен. Я не верю, я нормальный, здоровый мальчишка". Инвалидность по мукополисахаридозу ему давали очень трудно — ведь он внешне не отличается от сверстников. В нашем районе сказали: "Сын ваш вполне здоров и способен самостоятельно себя обслуживать". Так что получать инвалидность пришлось в Нижнем Новгороде.
Когда нам рассказали про наглазим, мы схватились за эту спасительную ниточку и держимся за нее до сих пор. В поисках лекарства мы писали во все инстанции, какие только можно: в Минздрав Нижнего Новгорода, в приемную Путина...
В первом случае мне ответили, что ничем помочь не могут, поскольку лекарства нет. А из приемной Путина ответа я так и не дождалась. Я регулярно обзваниваю аптеки, но новостей до сих пор нет. Снежанна Митина сказала мне, что наглазим вроде бы в данный момент находится на таможне и должен появиться, но мы так давно ждем... Лечение наглазимом в перспективе обойдется в 14 миллионов в год. Если государство не будет его оплачивать, где брать деньги, совсем непонятно».
Евгений Ф.
Возраст: 22 года.
Место жительства: Москва.
Диагноз: спинальная мышечная атрофия IV типа.
Эпидемиология: в России диагностированы 10 человек.
История болезни. Евгений Ф.: «Я понял, что со мной что-то не так, на занятиях физкультуры — я не мог ходить на пятках. Вообще, при моей болезни человек начинает догадываться, что отличается от других, в достаточно осмысленном возрасте — в школе. В принципе, мой внешний вид не очень отличается от остальных людей — просто я немного угловатый, у меня очень слабые мышцы кистей и стоп, худые и длинные пальцы. Нужно быть очень большим специалистом, чтобы понимать, что имеешь дело с генетическим заболеванием.
В детстве мне, как и моему отцу и сестре, ставили диагноз дистальная миопатия, симптомы у нас у всех были схожие. Мы тогда жили в городе Владов в Удмуртии. Население — 120 000 человек, уровень медицинских работников соответствующий.
Когда я узнал, что у меня очень редкое заболевание — дистальная спинальная амиотрофия, — мне не было страшно. Но оно придает жизни дискомфорт — есть ограничения, например, мне трудно заниматься физическим трудом, я хожу не так быстро, как остальные, а когда иду по лестнице, переваливаюсь с ноги на ногу. Может, это придирки — есть ведь люди, которые ездят в инвалидных колясках, не могут ни работать, ни получать кайфа от жизни... Но между мной и здоровым человеком есть разница, которую я не пожелал бы испытать никому. Главное — я не понимаю, какие фундаментальные процессы идут в моем организме.
Но я оптимист, стараюсь себя не запускать, чтобы тонус был нормальный, чтобы не чувствовать себя ограниченным. В моем случае очень многое зависит от качества жизни. Я работаю в банке и могу позволить себе ходить в бассейн, покупать лекарства — мне назначили четыре курса лечения препаратами нейромедин и элькормедин, все они вполне доступны, в месяц обходятся в четыре с лишним тысячи. А еще я езжу на машине — если бы ездил на метро, картина была бы другой. Я не обращался в службы социального обеспечения. Я не тот человек, который будет ходить и просить. Мама моей девушки говорила, что мне лучше жить за границей, но я никаких иллюзий не питаю, поскольку не знаю, смогу ли там устроиться.
Что будет происходить со мной дальше, я пока не знаю — заболевание это редкое, про него известно только то, что оно наследственное и нельзя допустить, чтобы оно передалось детям. А риск очень высок — 50%. Меня это очень беспокоит. Я понимаю, что возможно сделать дородовую диагностику или провести экстракорпоральное оплодотворение и родить здорового ребенка. Но главная проблема — нужно найти ген, ответственный за появление этого заболевания у меня и членов моей семьи. В Медико-генетическом научном центре мне исследовали два гена, мутации в которых приводят к возникновению дистальных спинальных амиотрофий, но ничего не нашли. Известно еще несколько генов, которые можно проверять, и пока у меня будут деньги на анализы, я буду этим заниматься».
Ирина и Анастасия К.
Возраст: 18 лет и 12 лет.
Место жительства: Воскресенск.
Диагноз: недостаточность альфа-1-антитрипсина.
Эпидемиология: в России диагностированы 30 человек.
История болезни. Александр К., отец Ирины и Анастасии: «Обычно эта болезнь либо вообще не диагностируется, либо обнаруживается на вскрытии у патологоанатома. Альфа-1-антитрипсин — это белок, который синтезируется в печени и защищает легкие. Его недостаточность приводит к поражению печени и холестазу, из-за которых может развиваться хронический гепатит, цирроз или хроническая эмфизема легких. Лекарства от этой болезни нет, и если у больного поражена печень, выход один — трансплантация. В Штатах создан некоммерческий фонд поддержки больных с недостаточностью альфа-1-антитрипсина: им предоставляют специальную литературу, поддерживают пациентов, поддерживают врачей. У нас ничего такого не происходит.
У моей старшей дочери, Иры, на третьей неделе жизни началась желтуха. Желчь застаивалась в печени и практически не выводилась наружу: у нее была темная моча, носовые кровотечения, причем кровь почти не сворачивалась. Начались гематомы. Мы мотались по нескольким московским больницам, но нам не могли поставить диагноз. Единственное, в крови Иры обнаружили антитела к цитомегаловирусу — так бывает у больных с недостаточностью альфа-1-антитрипсина, но врачи грешат на последствия цитомегаловируса, успокаиваются и правильный диагноз не ставят. В Воскресенске мы пытались лечить Иру травами, ей делали капельницы с магнезией и глюкозой. В результате, когда Ире исполнилось три месяца, симптомы желтухи ушли. Анализы были нормальными, и мы успокоились.
Через шесть лет родилась вторая дочь, Настя, у которой в три недели начались абсолютно такие же симптомы. Подняли медицинскую карту первой дочери; врачи удивлялись, что симптомы совпадают. Нам поставили диагноз галактоземия, так как было выявлено повышение галактозы в крови, и назначили безмолочную диету. Потом родилась третья дочь, Аня, и мы решили выяснить, есть ли и галактоземия у нее. Нам рекомендовали обратиться в Медико-генетический центр РАМН. Мы привезли на анализ кровь всех трех дочерей, и оказалось, что галактоземии нет ни у кого из них. Практически одновременно начались проблемы у Иры — кровотечения, увеличение печени и селезенки, цирроз, варикоз вен. Нужно было срочно что-то делать.
И тут нам позвонили из лаборатории и сказали, что проводили обследование одной семьи, выявили недостаточность альфа-1-антитрипсина и заодно сделали анализ нам — симптомы совпадали, а образцы нашей крови у них, к счастью, сохранились. Таким образом, только в 2005 году нам поставили окончательный диагноз. Выяснилось, что у Насти и Иры — гомозиготное носительство, то есть повреждены оба аллеля в гене, а у третьей дочери, Ани, — гетерозиготное, то есть она является носителем заболевания, но сама не "повреждена".
Когда у Иры диагностировали цирроз, ее отвезли на консультацию к Сергею Владимировичу Готье, на тот момент завотделением трансплантации в Российском научном центре хирургии. Иру поставили в лист ожидания на трансплантацию печени, но тогда, пять лет назад, детские трансплантации не проводились — они и сейчас редки.
Мы стали искать возможности выезда за границу. Когда выяснилось, что Минздрав покрывает только две трети стоимости трансплантации и нам нужно самим заплатить 1,5 млн рублей, мы начали сбор средств через Общество имени Насти Рогалевич, которое помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени, и через сайт, который сама сделала Ира. Мы уже получили из нескольких медицинских центров США и Германии данные о стоимости трансплантации и готовились уехать. Но, во-первых, мы так и не смогли собрать 1,5 млн рублей, а во-вторых, через полгода после того, как мы отправили бумаги в Минздрав, нам пришел отказ в оплате операции — мол, пересадки вот-вот начнут делать в России, и стоит только подождать. Насколько я знаю, Минздрав тогда отказался оплатить даже те операции, которые уже были назначены — люди выезжали либо за счет благотворительных фондов, либо заняв в долг.
Ирина стояла в очереди на пересадку печени больше года. Сначала планировалось, что ей пересадят часть печени от нашей родственницы, но та за неделю до операции отказалась — ей знакомый врач сказал, что ее "обманут, раскромсают, и она будет всю жизнь лечиться". Только через несколько месяцев Ире сделали трупную трансплантацию. Операцию оплатили по квоте, она прошла хорошо, Готье был очень доволен.
Сейчас Ира себя чувствует хорошо, принимает иммунодепрессанты, которые нам предоставляют бесплатно — правда, не в тех дозировках и с изрядным опозданием. Она оканчивает школу, собирается поступать в институт и хочет заниматься генной инженерией. У Насти все более или менее в порядке. В отличие от Иры, у нее нет инвалидности, которая у нас в стране, как известно, дается только в случае "стойкого поражения здоровья". Но мы заранее готовимся к тому, что у Насти тоже могут начаться проблемы со здоровьем, копим деньги на пересадку печени. Раз в полгода мы проводим обследование Насти, пока цирроза нет, но вероятность того, что ей не нужна будет трансплантация — 10%. Но мы, по крайней мере, знаем, к чему готовиться».
Алексей Платонов
Возраст: 33 года.
Место жительства: Бронницы.
Диагноз: болезнь Фабри.
Эпидемиология: в России диагностированы 20 человек.
История болезни. Алексей Платонов: «Моя болезнь была видна давно, но никто не знал об этом. У меня по всему телу были множественные гемангиомы, красные высыпания, скопления точек на коже, которые я заметил в семь лет. Мама возила меня в РОНЦ на Каширском шоссе, где у меня брали биопсию кожи, поскольку подозревали онкологию. Диагноз не подтвердился, и я жил как жил — свел самое большое пятно, и все.
В 32 года я обратился в областную больницу Бронниц с паховой грыжей. Перед ее удалением мне сделали кардиограмму, которая выявила мерцательную аритмию, и меня госпитализировали в отделение кардиологии: все случилось так быстро, что я сам не понял толком, в чем дело. Понимаете, я же ничего не чувствовал — ну да, побаливало сердце, но я работал плотником, был нормальным человеком...
18 дней я лежал на обследовании в Институте Сеченова, мне сделали биопсию сердца, которая выявила отложения гликогена. Меня направили к генетику и сказали, что срочно надо ставить кардиостимулятор — были остановки сердца, паузы до пяти секунд, ночью пульс не выше 30 ударов. Я наблюдался в Институте Петровского у Елены Валерьевны Заклязьминской, которая по клиническим проявлениям заподозрила болезнь Фабри, взяла у меня кровь и связалась с Медико-генетическим центром. Именно там мне подтвердили диагноз.
Есть один препарат для ферментозамещающей терапии при болезни Фабри, он помогает справиться с избытком токсичных веществ в организме. Годовой курс стоит $100 000. В конце прошлого года его вроде бы зарегистрировали, и в феврале я написал письмо в Минздрав с просьбой выделить мне деньги на постоянное лечение — принимать препарат нужно пожизненно, курс прерывать нельзя. Но ответа я так и не дождался, препарат мне не выдают. Что делать, если они так и не ответят, не знаю. Президенту писать? Ну, буду писать, пока не добьюсь.
В Институте Петровского мне по квоте вживили кардиостимулятор — самый дешевый, отечественный. Но электрод для него я покупал сам — пришлось взять взаймы 40 000 рублей, до сих пор в долгах хожу. Стимулятор мне вживили больше года назад, и мое состояние улучшилось. Простейший кардиостимулятор исключает возможность внезапной смерти, но мерцательная аритмия как была, так и осталась. При этом болезнь Фабри прогрессирующая. Стимулятор продлил мне жизнь, но каждые полгода я должен сдавать анализы, токсичные вещества могут отложиться куда угодно, например в почки.
Меня всегда интересовало, почему у меня дед со стороны матери умер в 30 лет. Теперь я понимаю, что у него было такое же заболевание — только в его случае осложнения шли в почках, а у меня в сердце. Это заболевание передается по материнской линии, но только мальчикам. Мои сын и дочь здоровы, но дочь, по результатам анализа, является носительницей болезни Фабри. Еще носительница — моя сестра, и если она родит сына, он может быть таким, как я. А эта болезнь особенно остро проявляется именно в моем возрасте, лет в тридцать, и если бы я не пошел к врачу по поводу паховой грыжи, то, вероятно, просто умер бы во сне».
Телефон Ирины Мясниковой, главы комитета по редким болезням при Всероссийском союзе общественных объединений пациентов — 8 916 313 8153.