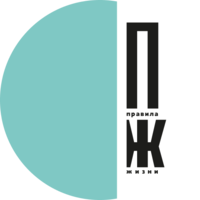У меня пропало обоняние на пять-шесть дней. Это произошло в мае. Кажется, у меня был Covid-19, хотя я не сдавала тест, а других симптомов — кроме усталости и температуры — у меня не было. Обоняние пропало начисто — я никогда не испытывала ничего подобного. Потребовалось 12 часов, чтобы как-то с этим свыкнуться. Чтобы убедиться, я провела руками по травам, растущим на подоконнике, затем поднесла пальцы к лицу и вдохнула. Абсолютно ничего. Это одна из моих привычек: каждый раз, прикасаясь к растениям, я испытываю гордость за то, что сумела вырастить и сохранить их в грязных условиях Бруклина. Но теперь я не почувствовала ничего: ни запаха тимьяна, ни орегано, ни шалфея, ни укропа с его отчетливым сладким ароматом. Сердце больно сжалось. Я подумала: как жить в мире без запахов?
Каково это — потерять обоняние, будучи профессиональным сомелье

Новая утрата дала о себе знать чуть позже, когда я открыла бутылку вина Skerlj Malvasia. Это мое любимое вино из Фриули – тропическое, густое, с грубоватой кислинкой. Я не почувствовала ни одной цветочной нотки, цитрусовых и соленых ароматов, за которые так любила это вино. Это сбивало с толку. Я едва осилила 100 грамм, так как без аромата вкус вина стал каким-то пресным. Несколько дней я думала о том, какой была бы жизнь, если бы я потеряла обоняние навсегда и травы с кофе навсегда исчезли из моей жизни; если бы я никогда больше не почувствовала аромат вина.
Мою работу как профессионального сомелье всегда сопровождал внутренний конфликт; я зарабатываю деньги, ведя разговоры о вине и продавая его в ресторанах. Почти пятнадцать лет вино было постоянным источником радости и обучения. Но в последние годы мне стало все тяжелее наблюдать, как современная культура пропускает все, что приносит радость, через мясорубку потребительства. Мир вынуждает больше времени уделять отчетам о прибылях и убытках ресторанов, чем истории и знаниям о виноделии и ферментации. По большей части я смирилась с этим, в конце концов, это цена, которую я плачу за любимую работу. Я превращаю себя в товар для владельцев бизнеса, становлюсь человеком, умеющим извлекать прибыль из желаемого объекта. Я получаю зарплату и имею постоянный доступ к прекрасным вещам.
Но с потерей обоняния, временной потерей способности чувствовать вино как таковое, а возможно, и с потерей работы, я резко осознала, что наша культура не учит нас ценить что-то, помимо обогащения и заработка. По крайней мере, значимость других вещей транслируется неясно. Даже после того, как пандемия в очередной раз обнажила экономическую диспропорцию конкретных бизнесов, в том числе винодельческого и ресторанного, я не думаю, что общество способно преодолеть тесную связь богатства и вина.
Я говорю о коллекционерах вина, как правило, это мужчины постарше (всегда мужчины, белые, средних лет или старше), которые ходят в определенного эшелона рестораны, чтобы продать свои коллекции. Я работала в заведениях, чьими важными инвесторами были коллекционеры. Это обстоятельство обязывало предлагать гостям именно что вина владельцев. Долгие годы самые модные винные карты Нью-Йорка собирались из частных погребов. Коллекционеры хотят, чтобы на их погреба обратили внимание, а заодно заплатили. Я полагаю, ими движет желание казаться круче – эдакими искушенными знатоками, как те, кто умеет сколачивать состояние на спортивных ставках. Второй тип коллекционеров – пожилые люди, которые собрали столько вина за свою жизнь, что теперь его некуда девать, поэтому они решили продавать его. Все равно все запасы не выпить, так почему же не заработать на них? По отношению к этим людям я испытываю досадную грусть: всю жизнь они заполняют свои погреба до отказа, а в итоге их роскошные коллекционные вина превращаются в уксус.

Полагаю, это одна из причин, по которой работа с вином доставляет мне такое удовольствие: стоит узнать его получше, и вам откроется новый мир; вы увидите, как вино меняется во времени и со временем, какие призматические, сюрреалистические формы оно принимает. Ваше Burgenland Cabernet Franc rosé 2017 года – Himmel auf Erden – было весьма неплохим в прошлом году. Но всего лишь год спустя то же самое вино ощущается более свежим, более полным. Тут то же самое, что и с людьми. Например, в 35 лет вы действуете более решительно, чем в 34. Возможно, еще три года спустя это же розовое вино станет гармоничным, волшебным, обзаведется букетом из ягод и специй. Может быть, в 40 лет я буду выглядеть красивее, чем все годы до этого. И у вина есть те же едва ощутимые изменения во времени. Сразу же после открытия у вина один вкус; через час уже другой, на следующий день это уже совершенно другое вино. Оно подобно шапке пиона, раскрывающейся под лучами солнца; с каждым часом, проведенным под яркими лучами, пион раскрывает 30 новых лепестков, которые до этого были скрыты от вашего взора.
Поразительно! Оказывается, вино тоже живое существо, которое, подобно человеку, меняется со временем. Они смотрят на нас из-за бутылочного стекла и как бы говорят: «Смотри на меня, слушай меня, заметь меня, пока я еще существую». А их век тоже недолог. Некоторые вина хранят свое очарование не больше 24 часов после откупоривания. Есть букеты, которые стремительно раскрываются, а затем быстро увядают. Красота быстро проходит. Любой, у кого есть дети, понимает, как это происходит.
Мое обоняние вернулось спустя неделю. Я снова провела руками по своим травам, как делала каждый день, желая проверить его остроту. Когда я почувствовала запах шалфея, мое сердце пронзили неведомые ранее облегчение и радость. Запах и его компаньон — вкус — обладают невероятной способностью: они могут свести все к телесной приземленности, а могут проложить прямой канал к воспоминаниям и сильным чувствам. Какая привилегия, я подумала про себя; не имей я обоняния или потеряй я его на постоянной основе, на этом бы кончилась моя работа с вином. Осталась бы только торговля и капитализм. Мы правильно понимаем, что вино обладает внутренней ценностью, поэтому ему присваивается денежная стоимость. И в этом нет ничего необычного. Что мне кажется по-настоящему глупым, так это наша одержимость накоплением богатства, которую мы устремляем к вину, существующему на стыке сельскохозяйственного и эстетического миров. Заполняй погреба, придирайся к их цене, убеждай как можно больше богачей их купить. Я же скучаю по красоте вина. Я устала ждать, когда столь простая истина откроется людям.
Я бы хотела верить, что после пандемии мы переориентируем внимание с накопления богатства к чувствам. Вернемся к эмоциям и осмыслению, наблюдению за красотой вещей в компании других людей. Разумеется, на деньги можно многое купить, поэтому существуют такие специалисты, как я. Создание красивых вещей требует ресурсов, но мы уже переступили черту потребности. Ресурсов стало слишком много, а мы потеряли чувство меры. Хотелось бы верить, что можно сознательно перераспределять ресурсы между классами, расами, национальностями, чтобы сделать красоту доступнее. В некоторой степени это распределение достигло винодельческой и ресторанной отраслей; произошел сдвиг от корпоративных денег долины Напа и дорогих ресторанов Манхэттена к простым виноградникам и посиделкам на кухне с друзьями.
Даже после того, как рестораны показали, что не готовы к таким ситуациям, как пандемия, и оказались не способны защитить своих работников, которые по большей части являются иммигрантами, получающими гроши и ноль помощи от государства, — я боюсь, что в конечном счете мы все равно вернемся в эти заведения на тех же условиях. В эти фешенебельные рестораны, сокровищницы самых прекрасных и редких вин, места для театрализованных представлений для богатых. Я не знаю, как разорвать гордиев узел, намертво связавший красоту и капитал.
Но есть и хорошие вещи. За месяц до того, как разразилась пандемия, я сидела на крошечной табуретке в квартире моего друга, глядя на пол из синих, серых и красных плиток, прилично стершихся за сто лет ходьбы. В соседней комнате мой друг говорил по-французски с виноделом из Луары; затем к ним присоединился молодой писатель; у них была хорошая компания. Хоть я не говорю по-французски, мне было приятно за ними наблюдать. Мы пили Chenin Blanc из новой партии Жерара; оно было чистым, сбалансированным, без ботритиса (благородный плесневый гриб, который используется в виноделии для получения сырья с повышенной сахаристостью и сложным насыщенным вкусом. — Правила жизни), но такое же концентрированное. Жерар следил за моей реакцией. Я сказала, что мне это понравилось. Он улыбнулся, обнажив кривой зуб.
За окном стемнело, комната приобрела синий оттенок, но мы продолжили разговаривать. Мы быстро выпили вино – оно было слишком вкусным. Вино сделало свое дело, оно согрело меня изнутри и запечатало приятное воспоминание. Вино говорило мне: я с тобой, меня создали тяжелым трудом, я соль земли, я твое, я принадлежу всем вам. Так мы просидели час. Общение в приятной небольшой компании не утомляет меня; наоборот, только такие моменты имеют значение. За это не пришлось платить. Именно такие воспоминания я храню в памяти. И я точно знаю, что эти моменты не подвластны времени.