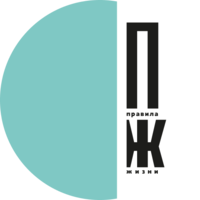«Never complain, never explain» — «Никогда не жалуйся, никогда не объясняй».
Семидесятые: живые и мертвые. Георгий Жуков и Кейт Мосс

Слоган, больше подходящий для политика — или генерала. Но это один из жизненных принципов модели Кейт Мосс. И она ему неукоснительно следует практически всю карьеру. Редко дает интервью, не приходит исповедоваться в телевизионный прайм-тайм, не оправдывается в момент, когда в нее летят комья грязи со всех сторон. Она давно усвоила, что если ее меньше, то парадоксальным образом ее становится больше.
А для символа времени это самое важное.
Кейт Мосс была одним из главных лиц 1990-х, в каком-то смысле она и была 1990-ми. Десятилетие, которое вознесло на пьедестал идею свободы — не только от холодной войны и ядерных боеголовок, дефицита или цензуры, но и свободу быть таким, как ты хочешь.
There’s something deep inside of me
(There’s someone I forgot to be)
Take back your picture in a frame
Freedom (I won’t let you down)
Freedom (I will not give you up)
Это из песни Джорджа Майкла Freedom’90, его персонального манифеста, в котором он объявлял, что устал от своей славы, образа — словом, от всего, что строил так долго для себя все 1980-е. И теперь он хотел чего-то другого: переписать свою жизнь таким образом, чтобы образ был больше похож на реальность. В знаменитом клипе на эту песню в кадре поют, кружатся, пританцовывают, ходят пять супермоделей рубежа 1980–1990-х: Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд. Сам певец почти не появляется в кадре: все делают девушки. Сгорают символы предыдущего этапа карьеры Джорджа Майкла — кожаная куртка, музыкальный автомат Wurlitzer и гитара. В холодном синем пространстве разрывается контракт с предыдущей жизнью и открывается дверь в новое будущее — не такое блестящее, гламурное и отполированное. Но, кажется, более подлинное; впрочем, все это бизнес — через два года Майкл повторит удачную идею в клипе Too Funky.
Клип снимал Дэвид Финчер — ему еще только предстояло превратиться в одного из главных режиссеров момента. К концу десятилетия он поставит «Бойцовский клуб» — еще один манифест освобождения от образа жизни, навязанного неолиберализмом.
Кейт Мосс и была символом наступившего освобождения, и в клипе Майкла ее как раз не было: не взошла еще ее звезда. Восьмидесятые были эпохой, когда символами времени становились девушки, больше похожие на богинь. Пышущие здоровьем тела, буржуазный вид, длинные ноги — словом, все говорило о том, что в здоровом теле — здоровый дух. И тут вдруг появилась девчонка: во время появления портрета Мосс на обложке журнала Face Кейт было 16 лет, невысокого роста, с кривыми ногами, широко расположенными глазами. И оказалось, что именно такого все и хотели — освобождения от предрассудков и ограничений предыдущей эпохи.
Кейт Мосс появилась не на пустом месте. Ее взлет к вершинам модельного бизнеса выглядит как радикальный разрыв с трендом, но на самом деле она была возвращением. Не к восьмидесятым — от них она как раз бежала, — а к куда более раннему, почти забытому опыту. В ее худобе, небрежности, универсальности и болезненной прозрачности легко увидеть нерв 1990-х, но он был давно оголен, еще в 1970-е, когда мода впервые не только попробовала быть витриной, но и искала способ стать личным дневником. Лорен Хаттон с ее щербинкой и взрослой независимостью, Пенелопа Три с подростковой худобой и холодной отстраненностью, Джейн Биркин с ее «я просто живу, а не изображаю» — все они предлагали свои образы не как идеалы, а как один из вариантов существования в реальности. Мосс унаследовала именно это. Но если у семидесятых за этой позой все еще стояла некая вера в идеалы, то к девяностым от этой идеи остались лишь расплывчатые образы.
Ее болезненный вид, который тогда же назовут «героиновым шиком», тоже не был чем-то очень новым, но в 1990-е она впервые стала массово легитимированной. В 1970-е худоба и усталость читались как побочный эффект бурной и свободной жизни. В 1990-е они становятся частью стиля и товара. Мосс не пропагандировала разрушение, но она сделала его видимым и не стала его маскировать.
Когда Марк Джейкобс в начале 1990-х выводил гранж на подиум, идея была не столько в рваных свитерах и странных рубашках — он предлагал отказ от декларации успеха, от обязательной демонстрации силы и благополучия. Эта логика — антиглянец как новый глянец — идеально совпала тогда с образом Мосс. Она была универсальной в том же смысле, в каком универсальными были модели 1970-х: ее можно было снять как девочку, как женщину, как маленькую бродяжку, как вашу соседку по лестничной клетке. А все вместе это означало, не «ты можешь быть кем угодно», а «ты не обязан быть никем».
Кейт Мосс стала символом 1990-х именно потому, что эти годы так и не сложились в цельный образ. А сама Мосс была собрана из противоречий, доставшихся ей в наследство от семидесятых. Она несла в себе память о времени, когда можно было быть любым, но существовала в эпоху, которая превратила это настроение в товар.
А в Москве в ту пору тоже обращались к наследию 1970-х годов. Пореформенная Россия, помыкавшись с иллюзиями возвращения в «семью цивилизованных народов» и добродетелей свободного рынка, ощутила себя никому не нужной. С этого одиночества начнется многолетний поиск национальной идентичности: что нас всех, живущих в России в границах 1991 года, связывает?
Очень быстро оказалось, что этот поиск у нас невозможно реализовать по восточноевропейскому сценарию. Там народы быстро оформили и запустили в жизнь национальный миф о жертвах больших империй и тоталитарных режимов, которыми они оказались в силу географии. На самом деле просто решили, что невозможно, потому что оказалось, что в таком случае придется перепридумывать слишком многое — отменять судьбы и опыт всего взрослого населения страны. Да, и с жертвенностью не очень получалось, потому что палачами оказывались часто те же самые жертвы.
От силы лет семь российское общество пыталась преодолеть советское наследие. И, как принято считать, перестало вести войну с собственным прошлым в новогоднюю ночь 1996 года, 30 лет назад, когда друзья Леонид Парфенов и Константин Эрнст выпустили «Старые песни о главном» — апологию советской эстрады времен высокого сталинизма и ранней оттепели. Но новогодний мюзикл просто обозначил рубеж — отношение к советскому менялось со знака минус на знак плюс в те годы очень стремительно.
Уже в 1995 году стало очевидно, что общая и главная святыня — Великая Отечественная война. В Москве с помпой праздновали полвека победы в войне. И в те майские дни невероятным со стороны могло показаться, что брежневский канон, закрепленный киноэпопеей Юрия Озерова «Освобождение», оказался опять востребованным.
«Освобождение» стартовало фильмом «Огненная дуга» в 1967 году — в нем впервые с начала 1950-х показывали Сталина. На фильм шли люди разных поколений, чтобы вновь или впервые посмотреть на «отца всех народов». В отличие от Троцкого, Сталин оказался неотменим: без него нельзя было рассказать о Великой Отечественной.
Правда, на этот раз пересматривался уже сталинский канон о фильмах про революцию и гражданскую войну. В них молодой, но очень мудрый Сталин давал советы Ленину. А в «Освобождении» уже у Сталина был такой советчик — маршал Георгий Константинович Жуков.
Хорошо известно стихотворение Иосифа Бродского «На смерть Жукова», но и другие хрестоматийные «античные» строки поэта хорошо описывают образ советского военачальника:
Рядом с ним — легионер, под грубым кварцем.
Он в сражениях империю прославил.
Сколько раз могли убить! а умер старцем.
Даже здесь не существует, Постум, правил.
Переживший триумфы и опалы, пройдя бессчетное количество войн, в которых был и солдатом и полководцем, калужский мужик Жуков в своей судьбе оказался равен только античным героям. Свою жизнь он доживал автором бестселлера «Воспоминания и размышления» и иконой победы, той, что одна на всех. «Освобождение», где Жукова играл Михаил Ульянов, и мемуары маршала сделали Жукова финальной частью национального пантеона. Как известно, Сталин боялся бонапартизма, а потому многих маршалов Победы во главе с Жуковым поспешил равноудалить от Кремля. Двадцать лет затем образ Жукова был размытым, неясным. Но когда у власти окажется Леонид Брежнев, прошедший ту войну, фигуре Жукова уже не будет никаких альтернатив.
Еще 20 лет после смерти Жукова — и окажется, что он уже точно главный символ Победы. Ему снова не было альтернативы. Он важнейшая часть всего самого важного, что мы возьмем из такого сложного и страшного нашего XX века. Всю историю Великой Отечественной можно рассказать, не превращая Сталина в героя, игнорируя его, ставя на задний план — совсем как в «Освобождении». Но без Жукова это сделать уже невозможно. Так, на Манежной площади в Москве в мае 1995 года открыли памятник Жукову авторства Вячеслава Клыкова. А по всей России в честь Жукова называли населенные пункты и улицы. Это произошло естественно и предсказуемо — поколения, выросшие на брежневском каноне, видели в этом просто факт восстановления исторической справедливости.
В «Парламентской газете» по случаю учреждения государственных медали и ордена Жукова так и писали: «Восстанавливается историческая справедливость в отношении национального героя России и выдающегося полководца». То есть на языке 1990-х годов это означало: да, в советской эпохе было много плохого, но Жукова это не касается. Не нужно вместе с водой выплескивать и ребенка.
Несколько лет брежневскую эпоху было принято презирать, считать чередой ошибок. Но когда начался поиск национальной идентичности, оказалось, что память о войне, которую именно при Брежневе и оформили в полноценный нарратив, переписать так просто нельзя. Маршал Жуков выиграл свое посмертное сражение за память. Его критики теперь могли довольствоваться только презрительным статусом ревизионистов.
Мы понимаем, что, вероятно, этот текст единственный в мире, в котором фигуры Георгия Жукова и Кейт Мосс оказались рядом. Но что-то большое общее в их судьбе, тем не мене есть. Оба этих разных человека оказались востребованы в 1990-е потому, что их образы были востребованы в 1970-е. И это повод подумать о том, что связь времен вообще менее линейна, чем о ней принято думать. Посмотрите по сторонам, герои и иконы 2040-х уже среди нас. А «проверка временем» — это совсем не штамп, а закон и необходимость.