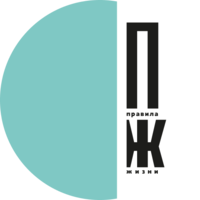Вина, паранойя и суд толпы — три кита, на которых стоит кинематограф Фрица Ланга.
Семидесятые: живые и мертвые. Фриц Ланг и Джек Дорси

Обычный человек превращается в чудовище — вот излюбленный мотив Ланга. К этим «средним» обывателям он относится с ужасом, себя из их числа, очевидно, не исключая.
Молодая жена осматривает комнаты в доме мужа и узнает, что каждая из них представляет копию тех комнат, где умерли его предыдущие жены; последняя комната — ее собственная воссозданная спальня. Человека ложно обвиняют в похищении ребенка, а следом по городу ползут слухи и пересуды. У здания тюрьмы собралась толпа, намеренная линчевать злодея. Тюрьму взрывают и этими взрывами невольно освобождают предполагаемого злодея и убивают маленькую собачку. Профессор средних лет идет по улице и случайно знакомится с роковой красоткой — с этого момента вся его жизнь идет кувырком, он запутывается в паутине преступлений, страха, необходимости убивать врагов.
Хаос, анархия, страх — словом, все то, что так высоко ценил другой герой фильмов Фрица Ланга, доктор Мабузе, гениальный трикстер и преступник-стратег:
«Когда люди, порабощенные террором преступления, обезумеют от ужаса и страха; когда хаос будет возведен в высший закон — тогда наступит час владычества преступления».
Фриц Ланг всю свою жизнь прятался за маской режиссера-диктатора — кричащего на немецком в мегафон человека с моноклем (а затем и с черной повязкой на глазу). О своей жизни рассказывал скупо и чаще всего заранее режиссерски продуманные истории. Самая знаменитая и им любимая — как перед премьерой «Доктора Мабузе» его вызывал к себе Геббельс и уговаривал стать режиссером-пропагандистом на службе Рейха и, выслушав это предложение, Ланг в ту же ночь сбежал из Германии. История красивая, но неправдивая: все было не так. А как именно, мы уже не узнаем. Как вряд ли прольется свет на обстоятельства гибели его жены Лизы Розенталь в 1920 году: сам он говорил, что она застрелилась через несколько минут после того, как застала Ланга с любовницей (и соавтором) Теа фон Харбоу; некоторые современники и исследователи-киноведы подозревают, что все было сложнее, допуская даже убийство.
Затемнение.
Сюжеты, по которым он ставил фильмы, часто кажутся картонными, слишком бульварными и нарочито нелепыми. Здесь иностранные разведки вьются как стервятники над трупом журналиста-расследователя; здесь полиция и преступный мир ведут в Берлине поиски маньяка-убийцы — и грань между людьми, стоящими по разные стороны закона, размывается, а маньяк, представ перед импровизированным судом бандитов, произносит речь, в которой отказывает сборищу гангстеров в праве судить себя, так как он болен и не может контролировать себя. Здесь прекрасное и прогрессивное общество будущего построено на лжи, унижении, жестокости, которая таится где-то под спудом, но вот-вот вырвется на поверхность.
Фриц Ланг раз за разом показывал на экране внутренних демонов — подсознательное целой эпохи. Зловещая рука простирается над картой города, по кирпичной стене ползет тень человека, которого мы не видим, группа людей не сговариваясь начинает осуждать невинного и показывать на него пальцами: распни его!
Психопатическая атмосфера фильмов Ланга чем-то напоминает странные миры, в которых обитают герои Достоевского. Сама реальность здесь искажена — как во сне или в бреду сумасшедшего. Кстати, вроде бы Ланг провел некоторое время в психбольнице после самоубийства жены; позднее он отполировал и эту историю, рассказав, что собирал там материал для картины.
Ланг превратил свою частную жизнь в крепость, никого не пропуская за ее ворота и выдавая информацию о себе крайне скупо — то в виде отполированных историй, то в виде саркастических реплик. Но никогда не уходя вглубь, не давая возможности осмотреть пейзаж целиком — лишь отрывки, скетчи, наброски.
Но на экране он себя отпускал и показывал все то, что станет потом основами фильма-нуара: напряженную атмосферу паранойи, тайные страхи, гнетущее чувство вины, желание обвинить кого-то другого в своих бедах и проблемах. Раз за разом показывая изнанку человеческой души, он словно хотел для себя еще раз подтвердить, что в мире бал правит сумрачное подсознание обывателя, вызывающее к жизни демонов. Не отказываясь от прямолинейного политического прочтения своих картин (и даже потакая этому), он сам, конечно, изучал универсальные, а не сиюминутные правила человеческого существования.
В последние годы жизни, уже не снимая, он внимательно следил за современностью во всех ее видах: от Уотергейтского скандала и вызванной им политической паранойи до порнофильма «Глубокая глотка». Когда ему задавали вопрос, что бы он снимал, если бы продолжал этим заниматься, он говорил: «В нынешнем мире, каким он стал, думаю, мои фильмы были бы очень критичными — очень агрессивными». Вина, паранойя и суд толпы — три кита, на которых стоял Twitter Джека Дорcи, да и стоит X другого нашего героя, Илона Маска. Может быть, грубоватой цензуры в пользу «всего хорошего» стало меньше, а настроение и содержание остались прежними — законы платформы не изменились.
Но начиналось все многообещающе. Джек Дорси — из поколения не создателей интернета, но тех, кто привел туда «обычных людей», организатор великой миграции людей из офлайна в онлайн. Миллениум, подзабытое слово из начала века, провозгласил наступление спасительного Web 2.0 — теперь в сети могли творить не только гики-жрецы, обремененные тайными знаниями, но и любой профан с клавиатурой. Форма этой революции появилась не сразу, но как только пришла, так заняла собой все пространство, как будто ради нее, а не для военных целей и создавался интернет — социальные сети.
Теперь пассионарии, умевшие писать код, наперегонки ринулись придумывать идеи социальных сетей. Так, в 2006 году Джек Дорси со знакомыми придумывает социальную сеть, в которой можно оставлять сообщение не длиннее 140 символов. Как будто вовсе не человек пишет, а птичка в райском саду щебечет. Отсюда и название — «щебетатель».
Но что вообще можно рассказать за такое количество знаков? Сложную идею — вряд ли. Объяснить и объясниться — тоже нет. Рассказать историю практически невозможно, если, конечно, вы не Хемингуэй. Зато 140 знаков хороши для новостей и эмоциональных реакций на них. Конец нулевых — и пока Twitter только нащупывает собственный голос.
А сейчас давайте перенесемся в нашу середину двадцатых. В сети — очередной тренд «Миллениальский оптимизм», посвященный началу десятых годов. Среди прочего это тоска по вере во всепобеждающую силу социальных сетей. Вот ее сейчас вообще нереально объяснить, зная, что будет потом. В 2011-2012 годах люди реально верили, что благодаря социальным сетям будут свергнуты или трансформируются все диктатуры. Характерная российская новость, кажется, из мая 2012 года: «"Яндекс" обогнал по рейтингу Первый канал» — дескать, теперь люди черпают новости из свободного интернета, поэтому скоро все изменится (последнюю фразу нужно читать голосом героя балабановского «Груза 200»). Но у таких беспочвенных мечтаний был и мощный фундамент. Только что по арабскому Востоку прогремела «весна». В Египте диктатора Хосни Мубарака скинул восставший народ, который самоорганизовывался через Twitter. А чем все остальные страны и народы, которым доступны хештеги и рассылки, хуже?
Снова перенесемся в нашу середину двадцатых и зададим несколько вопросов. Почему алгоритмам «Яндекса» вообще позволяли своевольничать и поднимать новости только из-за читательского интереса? Почему Хосни Мубарак не заблокировал Twitter за пару лет до восстания? Это очевидные вопросы из нашей эпохи, и как раз все десятые на них будут формулироваться ответы. Но 15 лет назад таких вопросов не ставили в принципе.
Итак, Джек Дорси — технооптимист, верящий в самоорганизацию и децентрализацию. Созданная им социальная сеть, как и было сказано, имела минимальный порог входа. «Если вы думаете, что делаете что-то интересное, — сделайте это открыто, кричите об этом с крыш», — провозгласил современный Прометей. Новости в Twitter получать уже неинтересно — куда важнее оказалась возможность выставить себя напоказ, прилагая минимальные для этого усилия. И поддержку, и единомышленников можно было найти в этой сети за считаные дни. Сообщение длиной 140 символов — минута, если подумать. Лайк — меньше секунды. Репост — тоже.
Twitter стал эмоциональным героином. Лайки и репосты, лайки и репосты. А еще на меня подписался тысячник. «Обнимаю», «сил тебе» — к такому уровню эмпатии приучал Twitter. Много эмоций — мало усилий. Не ставя перед собой вопрос «Зачем?», твиттерские ринулись хвалиться собственными «как»: перверсиями, патологиями и нижним бельем, выставлять на всеобщее обозрение и то, что психиатру постесняются рассказать. А политические обсуждения свелись к однозначным формулировкам, не допускающим двойного толкования. Полиция лайка и полиция скорби — невиданные явления, ставшие неотъемлемой частью этики. Дальше — вопрос только распространения. «Ату его!» — скажет иной твиттерский «интеллектуал» — и всё, порушены карьеры и репутации. Доказательства? Аргументы? Дискуссии? Русский язык здесь родил хорошее слово (оно, правда, пришло из ЖЖ, где писать приходилось много с не меньшим ожесточением) — срач.
«Я Twitter только читаю», — скажет иной человек, пытающийся стоять над схваткой. Но одного неудачного лайка хватало, чтобы тебя социальная сеть навсегда пометила левым или правым. Кстати, это тоже задумка Дорси — вы сами себе создаете эхо-камеру, ставя те или иные лайки, мы здесь ни при чем. Следить нужно не за базаром, а за симпатиями — новый уровень дискуссии.
Любящий рассказывать о медитациях, практикующий ежедневно восьмикилометровые прогулки и употребляющий пищу только один раз в день, Дорси настойчиво делал вид, что он действительно ни при чем, — такова природа человека: мы создали инструмент самовыражения, а дальше вы сами. Срачи все больше затягивали пользователей, а акции Twitter стоили все дороже. Интересно измерить одну медитацию Дорси в нервных клетках, потраченных пользователями сети в обсуждении твиттерских скандалов за то же время.
Всемирная гражданская война в Twitter шла все десятые. Правые обвиняли Дорси в поддержке левых. Левые обвиняли Дорси в том, что он не банит правых сразу, как только те обозначили публично свои взгляды. Апогея и развязки эта история достигла в январе 2021 года, когда Дорси заблокировал в Twitter президента Трампа: тот якобы призывал своих сторонников к насильственным действиям. Дорси на несколько мгновений самый влиятельный человек в мире. Мы обычно считаем, что президента может заблокировать только Бог. А тут это сделал корпоративный CEO. Это вершина влияния социальных сетей. Но с нею техноутопия закончилась. Бушевавший в мире ковид напомнил: когда вас будут грабить в темном переулке, вы будете кричать «Полиция!», а не «Twitter!». А туда вы потом сможете написать возмущенный пост о том, что полиция приехала слишком поздно, если, конечно, Twitter у вас в стране не заблокирован.
Через четыре года Маск, Безос, Цукерберг, Кук стояли в строгих темных костюмах на инаугурации Трампа. Дорси там не было — впрочем, кажется, его и не звали. Но и собравшихся там его коллег хватило, чтобы сделать вывод: эпоха любого сетевого оптимизма закончилась. Всякая самоорганизация и свободное распространение идей или пресекаются, или контролируются человеком с ружьем, то есть государством и его аппаратом насилия. Дурачки с микроблогом ничего, кроме спама, этому противопоставить никогда не могли — только свое хорошее настроение и нюдсы.