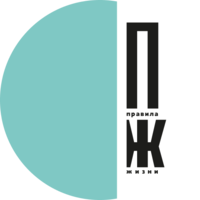Вы часто работаете с мемориальными пространствами. Для вас музей — это скорее место хранения памяти или место ее производства?
«Музей — это место производства памяти». Интервью с куратором Юлией Сениной

Музей ОБЭРИУ — это второй мемориальный музей, в котором мне посчастливилось работать. Пять лет я проработала в музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского, который в 2020 году стал первым частным мемориальным музеем в России, посвященным герою такой широкой известности. Уже там мы предложили нестандартный путь работы с памятью, не став делать реконструкцию быта, а оставив пространство пустым вместе с полем для рефлексий и интерпретаций. То есть прошлое оказалось не статичным наследием, а живым процессом осмысления. В музее ОБЭРИУ этот процесс мы с коллегами попытались сделать еще более живым и обостренным. Поэтому, конечно, музей для меня в первую очередь место производства памяти.
Можно ли сегодня говорить о музее как об антропологическом инструменте — способе понять, как общество обращается со своим прошлым? Или это касается лишь нескольких институций?
Частные мемориальные музеи — это сейчас все еще исключения, поэтому об обществе в целом по ним судить не стоит, но вполне можно о группе людей, кто их создает и кто в них ходит.
Есть ли риск, что музей, посвященный авангарду и радикальной поэтике, сам со временем застынет и станет слишком академичным? Как этому противостоять?
Мне кажется, основная проблема, связанная с деятельностью вокруг ОБЭРИУ, — желание сделать не так, как у всех. То есть во главу угла ставится смешное, а также перформативная часть деятельности группы. Но абсурд в литературе и философия абсурда не сводятся к тому, чтобы сделать что-то странное, — за этим стоят куда более сложные идеи, выросшие, в свою очередь, из философии экзистенциализма. Часто упускаются из поля разговора про поэтику ОБЭРИУ идеи философов Якова Друскина и Леонида Липавского, которые значительно влияли на поэтов. Поэтому академизм для нас не несет негативной коннотации, в какой-то мере он просто необходим, чтобы собрать коллекцию, издавать книги и в целом говорить про последний взрыв авангарда с разных ракурсов. Так что академизму мы сильно противостоять не собираемся, а готовы его даже в нужной мере культивировать, совмещая с другими форматами музея, где возможен в том числе радикализм действий и отдельных решений.

ОБЭРИУ — это явление, во многом построенное на разрыве, абсурде, неустойчивости. Как перевести эту поэтику на язык музейного пространства?
Это самый сложный вопрос, настоящий кураторский вызов. Мы находимся в процессе его решения. Но нам видится, что это должен быть музей-инсталляция и пути передачи идей ОБЭРИУ должны тяготеть, возможно, даже больше к современному искусству, чем к музейному делу.
Что оказалось самым сложным при превращении квартиры Введенского в место памяти: архитектура, архивы или работа с ожиданиями публики?
Сложностей было немало. Но со всеми получалось справляться, поэтому весь процесс мы воспринимаем цельно.
Что касается архитектуры, в квартире Введенского нас ждала сложнейшая комплексная реставрация с максимально бережным отношением к сохранившемуся. Это был страшно увлекательный процесс, походивший на проведение археологических раскопок. С архивами все сложности были ожидаемы, но мы не оставляем надежд довести наши изыскания до конца. А вот конкретных ожиданий у публики как будто и не было. Мы девять месяцев, пока работали над разысканиями и реставрацией, вели социальные сети, рассказывая практически в прямом эфире о процессе создания музея и популяризируя деятельность членов Объединения реального искусства. Поэтому к моменту открытия квартиры интерес был огромный, людям просто хотелось уже побывать в квартире, за которой они так долго наблюдали.

Вы говорите о музее как о первой пробе. Насколько для вас важно оставить пространство незавершенным, открытым для будущих интерпретаций?
Наша «первая проба» — это открытие квартиры с объединяющей семь частных коллекционеров выставкой «Комнаты ОБЭРИУ». Нам было важно посмотреть, как работает это пространство, как оно живет, как люди воспринимают увиденное, а также мы хотели показать профессиональному сообществу, что появилась институция, в стенах которой можно объединиться и примириться ради общего дела. А сейчас мы находимся в процессе раздумий и формирования постоянной концепции, которая, безусловно, не должна давать единую линию восприятия и предзадавать уже готовые смыслы и нарративы. Нам очень важно оставить простор для интерпретаций.
Как вы решаете этическую дилемму: где проходит граница между музеефикацией и вторжением в частную, почти интимную память?
Эта граница проходит в голове у куратора. Здесь у каждого свои пределы. Но кажется, что нет разделения на частную память и общественную, потому что в конечном счете каждая общественная — это сотканное полотно из памяти отдельных людей и судеб.
В этом смысле, следуя манифесту писателя и создателя Музея невинности Орхана Памука, хочется сказать, что сейчас время музеев, посвященных не нациям, а отдельным людям. Памук, посвятив музей героям своего романа, сделал его максимально интимным и личным. С реальными героями прошлого как будто мы не можем себе такой откровенности позволить, но сделать этих героев более реальными персонажами со своими слабостями, сложностями и противоречиями — вполне.

В музее ОБЭРИУ много внимания уделено следам — зарубкам, слоям обоев, заложенным дверям. Почему для вас так важны именно эти «немые» свидетельства?
Для меня все эти обрывки и отпечатки рук — главные свидетели прошлого. Это та подлинность, которая обладает аурой, если выражаться терминами философа Вальтера Беньямина. То есть у них есть присутствие во времени и пространстве, уникальное существование в том месте, где они находятся. Все эти обрывки и отпечатки сохранили взгляд участников ОБЭРИУ на себе, поэтому, мне кажется, они производят впечатление сильнее, чем если бы мы переклеили обои во всей квартире и восстановили буржуазный быт семьи Введенских.
Меняет ли опыт работы с Бродским ваше отношение к более «вещественному» музею ОБЭРИУ? Или наоборот?
Несмотря на то что мемориальная комната в музее Бродского — это пространство пустоты, это миф, что нас не интересовали вещи и мы их не собирали. Конечно, музей «Полторы комнаты» помог мне избавиться от комплекса «реконструкции», но тем интереснее работать с подлинными мемориальными вещами в пространстве квартиры Введенского.
Как вам кажется, что сегодня важнее для Петербурга: новые музеи или новое отношение к уже существующим местам памяти?
Сложно сказать, что важнее, но кажется, что «мест памяти» более чем достаточно, но они не вызывают должного интереса из-за своей статичности. Было бы здорово начать их переосмысление, реэкспозиции или даже небольшие интервенции туда. Несколько лет назад подобное пытались предпринять кураторы проекта «искусство жить дома». Как будто такие жесты позволили бы оживить работу памяти.

Как меняется ландшафт города, когда в нем появляются такие точки памяти, как музей ОБЭРИУ? Или они работают только на узкий круг вовлеченных?
Трудно оценить степень нашего влияния на ландшафт всего города, но точно могу сказать, что круг, который приходит к нам в музей, совсем не узок. Благодаря широким охватам наших социальных сетей и ежедневной работе музея нам удалось захватить внимание людей, которые, возможно, только слышали эту странную не вполне аббревиатуру «ОБЭРИУ», но ничего не знали о ней больше. Нам было важно создать средовое пространство, куда хочется возвращаться. И надеюсь, в нашем городе теперь на одно такое место стало действительно больше.
Есть у вас ощущение личной ответственности перед героями ваших музеев — Бродским, Введенским, обэриутами — или это все-таки профессиональная дистанция?
К счастью или сожалению, личную ответственность я ощущаю перед каждым своим героем в большей или меньшей степени. С Бродским за пять лет мы стали почти родственниками, и, приезжая в Венецию на его могилу, я испытываю трепет и горечь как будто уже его дальней ленинградской племянницы. С обэриутами несколько сложнее — все-таки временная дистанция больше и я не застала уже никого, кто хорошо знал их лично. Они остаются более отстраненными и далекими героями, но мы занимаемся памятью о них — и как будто эта дистанция постепенно сокращается.
Что в работе куратора для вас важнее: исследование, организация или разговор с живыми людьми?
Сложно выделить что-то одно. Важно все. Но эмоции и живые знания, которые получаешь от общения с реальными собеседниками, наверное, самое захватывающее, что есть в моей работе. Для всей нашей команды одним из самых сильных впечатлений во время работы над квартирой стало знакомство с Евгением Левитаном, племянником Введенского, который родился в квартире на Съезжинской в конце блокады. Для него эта квартира была не просто местом появления на свет, но и могилой его родителей, так как они умерли еще в его детстве. Он ушел из жизни через несколько месяцев после посещения нашей стройки в мае 2025 года, но ему и нам всем было очень важно, что он успел узнать о музее и увидеть его очертания своими глазами.

Если представить, что через 50 лет кто-то будет делать музей уже про наше время, что, по-вашему, окажется самым ценным следом для будущих кураторов?
Нашим детям и внукам нужно будет музеефициировать уже переписки в мессенджерах и облачные хранилища, но, как это воплощать в экспозиции музея, будет отдельной кураторской головной болью.