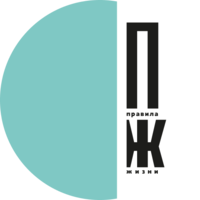Под большим вопросом: почему Марк Твен не любил интервью (и журналистов)
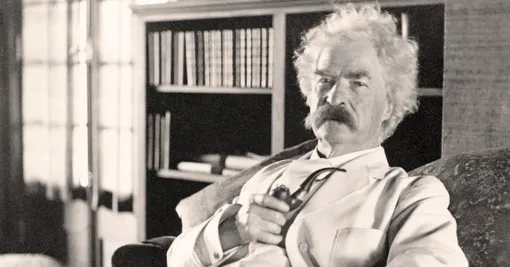
Никто не любит, чтобы его интервьюировали, однако никто и не отказывается, потому что интервьюеры вежливы и мягки в обращении, даже когда приходят, чтобы разрушать. Я вовсе не хочу сказать, что они приходят разрушать осознанно, либо что они понимают впоследствии, что произвели разрушения; нет, на мой взгляд, дело с ними обстоит примерно так же, как с циклоном, который приближается к изнемогающей от жары деревне с благородной целью принести прохладу, а потом решительно не понимает, что принес этой деревне все, что угодно, но не облегчение. Интервьюер рассеивает тебя по всей Вселенной, при этом не представляя себе, что ты можешь расценить это как вред. Люди, возлагающие вину на циклон, не сознают, что твердые тела не соответствуют представлению циклона о симметрии. Те, кто высказывает претензии к интервьюеру, не понимают, что он, по сути, не что иное, как циклон, хотя, как все мы, имеет вид подобия божия, не понимают, что он, даже если распылит твои останки по какому-нибудь континенту, не осознает причиненного вреда, а лишь решит, что сделал тебе приятное; поэтому о нем надлежит судить по намерениям, а не по деяниям.
Сама идея интервью не кажется мне удачной. Пожалуй, это худший из способов добраться до того, что скрыто в человеке. Прежде всего, встреча с интервьюером не воодушевляет тебя, а напротив, обескураживает, потому что ты его боишься. Ты знаешь по опыту, что этой напасти не избежать. Каким бы образом он ни строил интервью, тебе с первого взгляда понятно, что это следовало бы делать иначе: не потому, что иначе было бы лучше, но хотя бы просто не так, а любое изменение должно было бы и могло бы пойти интервью на пользу, на самом же деле ты в глубине души сознаешь, что ничего этого не могло быть. Возможно, я не очень ясно выразился, но это как раз означает, что я выразился достаточно ясно, потому что здесь нельзя сделать ничего другого, кроме как выразиться неясно, ведь я пытаюсь передать, что в таком случае чувствуешь, чувствуешь, а не думаешь, потому что это не умственная деятельность, а просто хождение вокруг да около, когда ничего не соображаешь.
Вопреки всему тебе хочется, чтобы ты этого не делал, хотя на самом деле ты не знаешь, чего именно, и более того, тебе все равно: ты просто хочешь, чтобы этого — о чем бы ни шла речь — не было; чего не было, не столь важно и не имеет отношения к делу. Понимаете, что я имею в виду? Вы тоже это чувствовали? Ну да, только это и можно чувствовать, увидев свое интервью напечатанным.
Да, ты боишься интервьюера, да, это не воодушевляет. Ты замыкаешься в своей скорлупе, держишься настороже, пытаешься стать бесцветным, изворачиваешься, говоря как бы по делу и не сказав, по сути, ничего; а когда видишь интервью напечатанным, то тебе просто дурно становится от того, насколько ты в этом преуспел. Все время при каждом новом вопросе ты бдительно следил, к чему клонит интервьюер, и старался перехитрить его. Особенно после того, как поймал его на том, что он обманом пытается выжать из тебя нечто юмористическое. На самом деле, он постоянно пытается это сделать. Причем настолько откровенно, прямолинейно и беззастенчиво, что уже самое первое его усилие этот источник перекрывает, а следующее намертво затыкает. Не думаю, что за все то время, что существует это жуткое ремесло интервьюера, кто-нибудь сказал ему хоть что-то действительно смешное. Но у него в тексте непременно должно быть нечто «характерное», поэтому он сам придумывает остроты и, когда пишет, пересыпает ими интервью. Остроты эти всегда нелепы, зачастую многословны и, по большей части, написаны на каком-то несуществующем и невозможном жаргоне. Такой прием сгубил многих юмористов. Но вряд ли следует ставить это в заслугу интервьюеру, ведь такого замысла у него не было.
Существует множество оснований считать интервью ошибкой. Вот одно из них: интервьюеру не приходит в голову, что, перебрав с помощью своих вопросов множество краников и отыскав, наконец, тот, откуда свободно и занимательно льется рассказ, стоило бы, ограничиться этим и извлечь из него самое лучшее, отбросив добытый раньше осадок. Но ему это в голову не приходит. Разумеется, он перекрывает этот поток вопросом о чем-то совершенно другом, и сразу же его небольшой шанс получить нечто стоящее пропадает, и пропадает навсегда. Лучше было бы остановиться на том, о чем человеку интересно рассказывать, но внушить это интервьюеру невозможно. Он не понимает, когда ты выплавляешь металл, а когда убираешь шлак, не отличает дукатов от грязи, ему это безразлично, он записывает все, что ты ни скажешь; затем сам замечает, что все записанное слова доброго не стоит, видит, насколько все это незрело, и пробует исправить, вставляя что-то, по его мнению, зрелое, а на самом деле подгнившее. При этом намерения у него самые добрые, совсем как у циклона. А то, как он перебивает, как заставляет перескакивать с одной темы на другую, несомненно, приводит к самым тяжелым последствиям: ты не можешь высказаться ни по одной теме в полном объеме. Как правило, тебе удается наговорить достаточно, чтобы навредить себе, но объяснить или оправдать свою точку зрения ты не успеваешь.