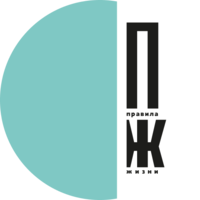Первую книгу, которую самостоятельно прочитал, помню хорошо. Это была «Черная курица» Антония Погорельского, как раз только что вышедшая с иллюстрациями моего отца Виктора Пивоварова — книжка, связанная со мной множеством нитей. Во-первых, это была невероятная иллюстраторская работа моего папы. Я был свидетелем этой работы. Во-вторых, изображая главного героя, мальчика по имени Алеша, папа удивительным образом предвосхитил мой облик. В советское время процесс издания книги был долгим... Когда папа начинал работать над иллюстрациями к «Курице», я был совсем маленьким, а когда книга вышла, уже дорос до возраста изображенного мальчика, то есть лет до семи, и всех поражало мое сходство с этим нарисованным мальчиком, — то есть это было такое отцовское предвосхищение. Ну я и решил, что раз уж я так на него похож, то пусть это будет первая книжка, которую я самостоятельно прочитаю.
Павел Пепперштейн — о любви к роману Достоевского «Бесы»; о том, каково быть литературным персонажем, и о связи между чтением и мастурбацией

Первая книга

К сожалению, выход этой книги был связан не только с положительными эмоциями, но и с печалью. Папа действительно постарался создать иллюстраторский шедевр, но книга, как это случалось в советское время — и, увы, не только советское, — была сильно испорчена в печати. Типографское качество иллюстраций оказалось очень посредственным. Но самым ужасным было то, что вмешался так называемый ретушер — тогда существовала такая профессия. Когда картинка выходила не очень четкой из-за типографских изъянов, ретушер ее дорисовывал — как правило, очень грубо, и в данном случае он действительно грубо вмешался. Я помню, это вызвало слезы на глазах отца, а в первый момент у него вообще случился шок. Тем не менее, это не помешало книге стать культовой, многими любимой.
Обсессивное отношение к литературе
Надо сказать, что я всегда читал не по возрасту — причем в обоих направлениях. То есть в раннем детстве я, ни у кого не спрашивая разрешения, выуживал из книжного шкафа самые разные книжки, которые вовсе не предназначались людям моего возраста. Но и наоборот: читал детские книжки в любом возрасте, и продолжаю это делать.
Любимых книг в детстве у меня было очень много. Я вообще был «читальным маньяком». Сказки, литература XIX века — Диккенс, Гофман и другие. Конечно, и русская литература тоже.
Особенно глубоким было мое погружение в английскую и скандинавскую литературу. Я был и остаюсь невероятным фанатом «Муми-троллей». В эпоху моего детства имелись только две опубликованные книги из этого эпоса — «Шляпа волшебника» и «Муми-тролль и комета». Мне этого было мало.

Там, где сейчас размещается книжный магазин «Москва», тогда находился магазин «Дружба». Там продавались книги социалистических стран — были разделы ГДР, Польши, Венгрии и так далее. Это был крутой магазин. Там, например, можно было найти комиксы. В Советском Союзе с комиксами был напряг, а таким людям, как я, они, конечно, были необходимы. Они встречались в жвачках, которые дарили иностранцы, — а иногда они привозили в подарок и сами комиксы тоже. Но еще существовал польский журнал комиксов «Релакс», — и я его всегда покупал именно в «Дружбе».
Однажды я увидел, что там продается полное собрание «Муми-троллей» на польском.Польского я, конечно же, не знал. Тем не менее, я мгновенно вспомнил, что у моей мамы есть подруга — замечательная женщина Ксана Старосельская. Она была переводчиком с польского и жила недалеко от нас, на Речном вокзале. Я тут же купил всех этих польских «Муми-троллей» и стал к ней напрашиваться в гости. Она очень добродушно и терпеливо к этому отнеслась и прямо со страницы мне сходу переводила. Я не успокоился, пока абсолютно вся эта гигантская эпопея не была мне таким образом «перепета» на русском языке.
Так что я очень обсессивно относился к некоторым книгам. Но был в этом отношении достаточно капризен: если мне что-нибудь не нравилось, я никогда не дочитывал. Никогда не читал с целью быть, скажем, эрудированным или потому что какие-то вещи якобы обязательно надо знать. Если мне что-нибудь «не заходило», немедленно откладывалось. А если «заходило», начиналось просто дикое чтение, а потом бесконечное перечитывание. Я всегда был склонен к перечитыванию. Иногда я, дочитав какую-нибудь книгу, тут же начинал читать ее снова, не делая никаких перерывов. И надо сказать, второе и даже третье чтение каждый раз ощущались так, будто читаешь абсолютно другое произведение. Я понял, что тексты сами в себе меняются. Достаточно очень короткого времени, чтобы в тексте что-то стало другим, перевернулось и открылось с совершенно новых ракурсов.
Эксклюзивность чтения
В те годы я обожал «самиздат» и «тамиздат». Я понимал очень отчетливо, что это вещь эксклюзивная, и распространение этих книг осуществляется в особых кругах. Знал, что не надо это «светить», вся эта конспиративная тема внушала мне бесконечный восторг. Мне очень нравилось, что некоторые книги надо скрывать — что в школе, например, не нужно говорить никому, что я только что прочитал «Архипелаг ГУЛАГ», или Шаламова, или даже Набокова. И я не прокалывался. Все было шито-крыто.

«Тамиздатовские» книги физически отличались, в них будто была какая-то странность, бумага другая, запах, и в этом содержался особый кайф. То есть дело не только в неподцензурном содержании этих книг.
В самиздате ходили, в том числе, вещи неожиданные с точки зрения современного сознания — например, Толкиен. В советской официальной печати вышла только первая часть «Хоббит. Туда и обратно», а все остальные части «Властелина колец» циркулировали в самиздате.

Я, естественно, не был одиноким читателем, в определенных московских кругах все имели доступ к этим книгам. Если говорить о моих ровесниках, то некоторые из них читали то же, что и я. Я не был совсем уж заброшенным Робинзоном.
Отсутствие необходимости выбирать
Существует огромное количество различий между практиками, связанными с изобразительным искусством, и практиками чисто литературными. Различия социальные, но и экономические — связанные с деньгами, с финансовой стороной дела. Я не представляю, честно говоря, как бы складывалась моя жизнь, если бы я был вынужден зарабатывать деньги литературным трудом. Поэтому я очень рад, что я художник и могу зарабатывать изобразительным искусством. Да, мне повезло. При этом я люблю литературу, мне нравится писать, и, собственно говоря, я благодарен судьбе за то, что могу более-менее свободно чувствовать себя в отношении этих практик, то есть не ставить перед собой задачу выбрать только одну из них. Ну и, конечно, я хочу нравиться читателям. Но не настолько, чтобы впасть от них в какую-либо зависимость.

В чем состоит писательская гениальность
Помню, когда я еще жил на Речном вокзале, там имелся мусоропровод в виде классической трубы. Такая железная штука — открываешь и вываливаешь туда мусор. У меня была такая практика: если я читал книгу, и она мне не нравилась, я с невероятной скоростью подбегал к мусоропроводу, и если книга принадлежала мне, кидал ее туда, и с наслаждением слушал, как она, шелестя страницами, как птица, улетает в бездну. Когда переехал в другую квартиру, где не было такого мусоропровода в виде трубы, я стал пользоваться форточкой — экспрессивным жестом выкидывал в нее книгу.
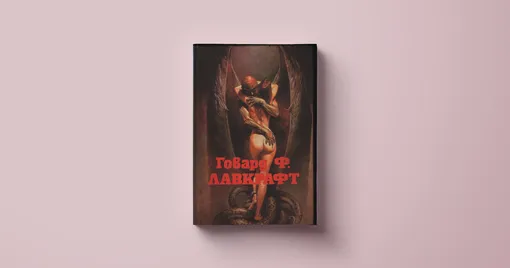
Я отказался от этого после того, как столкнулся с писателем, с которым этот номер не прошел — не все авторы позволяют с собой так обращаться. Как-то раз, читая Лавкрафта, я выбросил его в форточку. Вообще-то я люблю Лавкрафта, но почему-то в тот момент он меня взбесил или просто задолбал. Сижу радостный, думаю: «Какой-то он все-таки токсичный. Как хорошо без Лавкрафта!». И тут кто-то звонит в дверной звонок, я открываю, а там стоит мой приятель, который вдруг пришел ко мне в гости. Говорит: «Представляешь, я сейчас к тебе иду и вдруг — Лавкрафт валяется возле подъезда, я тебе его принес! Решил тебе подарить!». И хотя это был мой близкий друг, я не решился ему признаться, что сам только что выбросил этого Лавкрафта в форточку. Говорю: «Спасибо, какая мистическая история!». В общем, взял его, дочитал и понял: да, есть реально крутые писатели, которых в форточку не выбросишь. Что называется, их в окно, а они в дверь. Их в дверь — а они в окно. Это, конечно, гениально. Я тоже стремлюсь к тому, чтобы быть как Лавкрафт.
Многослойность древних текстов
Обычно я понимаю, как сделан литературный текст. Хотя, если обратиться к древней литературе, углубиться в очень далекое прошлое, это уже не так просто — взять, например, такое явление как палимпсест — наслоение текстов разных времен. То есть вопрос уже не в том, как сделан текст, а как он сделался, как его сплели самые разные авторы и различные эпохи. Текст создавался не кем-то конкретным, а потоком событий, обстоятельств, которые влияли на его формирование. Когда речь идет о древних текстах, возникает множество интригующих вопросов: как текст возник, или, может быть, это вообще подделка? Тут я, конечно, далеко не всегда могу разобраться. Но если речь идет о более-менее современном произведении, то, как правило, все-таки могу. Может быть, это самонадеянность. А может быть, и нет.
Как создавалась «Бархатная кибитка»

В каком-то смысле я в лабораторных условиях воспроизводил метод формирования тех самых древних текстов. В целом для меня характерно стремление выйти из-под власти духа времени. Ради достижения этой цели можно использовать различные приёмы. Один из них — синтез текстов, написанных в разные периоды. И этот прием я применил, работая над «Бархатной кибиткой».
В ней есть тексты, которые я создавал в описываемые, собственно говоря, в этой книге времена: в 16 лет, в 14 лет. Некоторые из них дописаны уже сейчас, некоторые каким-то образом фрагментированы, изменены. Это довольно кропотливая работа, которая к тому же совершенно не предназначена для глаз читателя. Читатель сталкивается то с текстом, написанным в 2021 году, то погружается в главу, написанную в 1982. Но ему не сообщается об этом, читатель остается неосведомленным ради того, чтобы он смог отловить эффекты не вполне заметных когнитивных диссонансов.
Последняя прочитанная книга
Недавно в энный раз перечитал «Бесы» Достоевского — с невероятным наслаждением, восхищением и увлеченностью. Это одно из моих любимых произведений, вечно актуальное, такой evergreen текст.

Он поразителен во многих отношениях — в частности, количеством пророчеств, которые в нем содержатся. Скажем, хотя Достоевский умер раньше, чем Толстой, в «Бесах» подробно описана смерть Толстого под видом смерти Степана Трофимовича. Описано, как он убегает из дома и где-то на почтовой станции тусуется с некой женщиной, пытается читать нравоучительные проповеди, при этом все время употребляет французские фразы, которых никто не понимает из окружающих персонажей. Этот образ — смесь чего-то очень трогательного и в то же время чего-то в высшей степени, как бы сейчас сказали, кринжового. Как будто Толстой сам потом разыграл свою смерть по сценарию, написанному Федором Михайловичем Достоевским.
Еще в «Бесах» предсказана текстовая эстетика обэриутов — в творчестве капитана Лебядкина. Этот роман оказал непосредственное влияние на Шостаковича — он написал вокальное произведение на лебядкинские стихи. Вещь известная. Не менее известен и другой факт. Персонаж «Бесов» Лямшин создает фортепианную вещь «Франко-прусская война». Прообраз «Ленинградской симфонии» Шостаковича.
В каком-то смысле «Бесы» — образцовый роман. Достоевский сам говорил, что, создавая эту вещь, жертвовал художественностью ради увлекательности. Действительно, увлекательность здесь предельная. Но при этом художественность на самом-то деле тоже не пострадала, а скорее даже вместе с увлекательностью достигла каких-то огромных высот. Писал он этот роман в один из наиболее «эпилептических» периодов своей жизни — лето 1870 года, когда он страдал особенно частыми и тяжелыми приступами. Поэтому, в каком-то смысле, это психоделическая литература. У Кастанеды, например, рассказчик при помощи определенных шаманских практик достигает расширения сознания. Иногда нечто подобное становится следствием болезни.
Литературные каноны
Сейчас я пишу роман, который будет посвящен русской литературе. Где-то год назад я предпринял попытку читать курс лекций о ней, и вроде довольно бойко начал, но потом меня что-то с точки зрения организации не устроило, и я перестал. Хотя мне это было очень интересно. И вот на этом фоне я затеял писать роман.
Меня всегда интересовала тема литературного канона в России, который, конечно же, представляет собой некий эрзац канона религиозного. Литература, особенно определенного периода, представляет собой некое квазирелигиозное образование — как и современное искусство сейчас. Есть несколько уровней этого канона. Он сформировался уже в XIX веке, а после революции возникли две его версии — советская и эмигрантская. Можно сказать, «красная» и «белая». И только много позже наступила эпоха диффузии, когда эти версии стали смешиваться.
Литературный канон, с одной стороны, постоянно развивается, дополняется, что-то из него вываливается, что-то в нем появляется — находки, изменения, переоценки. Но еще в нем есть то, что не меняется, вещи, которые проявляют стойкость к изменениям. Это и есть самое интересное.
Каково быть персонажем

Это, конечно, дело привычки. Поскольку сам я стал персонажем в очень раннем детстве — прежде всего, благодаря родителям — мне кажется, что это совершенно естественно. Если говорить о литературных произведениях то, конечно, к ним относится довольно известное стихотворение моей мамы (мать Павла Пепперштейна — детская писательница и иллюстратор Ирина Пивоварова — прим. «ПЖ») «Кривляка»:
Жил бы кривляка, ребята.
Он кривлялся с утра до заката.
Я скрывать от вас, дети, не стану —
превратился он в обезьяну.
Отвезли его в зоосад —
Никогда не вернется назад!
Немного печальное, особенно под конец, стихотворение. Оно про меня: я был диким кривлякой, все время строил рожи, постоянно кого-то изображал и всех смешил — при этом злил, конечно, нередко. Так что это одно из моих отражений в зеркале русской литературы. Их, конечно, довольно много, этих отражений.
Цензура и цикличность культуры
Ответственные инстанции говорят: «Книгу залить в целлофан, на целлофан надеть бирку с надписью "18+"». Но все меняется — в следующий раз уберут бирку и напишут, наоборот: «11-». Собственно, в истории текстов мы много раз наблюдали, как сугубо взрослые произведения — например, сказки, которые абсолютно не предназначались для детей, а предназначались, скажем, для того, чтобы маг в момент инициации нашептывал их в ухо посвящаемому — превращались в детские колыбельные, в какие-то детские «развлекаловки». В культуре все циркулирует, одно превращается в другое. Поэтому не удивительно, если бирка «18+» превратится в «81-». Такое возможно.
Сложные отношения с «Улиссом»
У меня много непрочитанных книг. Вспоминаются замечательные слова из большого стихотворения Генриха Гейне, где он обращается к своей молодой жене с упреком, что ей ничего не говорят имена таких великих еврейских авторов, как Иегуда бен Галеви, Авраам бен Меир ибн Эзра — и прочих. Он по этому поводу роняет замечательную фразу: «Это результат пробелов во французском воспитаньи». В моем чтении этих пробелов не меньше. Я очень многого не читал.

Того же «Улисса» я целиком не читал. Начинал несколько раз с большим удовольствием, а потом вдруг это куда-то утекало, улетало. Началось все очень давно, году в 1989-м, когда мне неожиданно предложили сделать для «Улисса» обложку — по-моему, речь шла о первом советском издании. Мне передали огромную папку с текстом, напечатанным на машинке. Я стал его читать и быстро остановился — то ли мне было некогда, то ли лень. Я честно позвонил в издательство и сказал, что, к сожалению, не буду делать обложку, не получается у меня прочитать это замечательное произведение.
И так я до сих пор целиком его и не прочитал, хотя совсем недавно большой кусок опять прочел с большим удовольствием. Я называю это «дачная схема» — когда оказываешься в гостях, на даче или на съемной квартире, а там книги стоят в шкафу. Прошлым летом мы две недели снимали квартиру в Питере — и в ней обнаружился «Улисс». Я снова его начал, а закончить не успел — мы уехали.
Связь между чтением и мастурбацией
Мне нравится высказывание Ролана Барта о том, что забывание есть условие чтения. Я полностью с этим согласен. Я многое забываю и иногда читаю тексты, будто первый раз — только приближаясь к концу, я вдруг понимаю, что я уже это читал. Это воспоминание, осознание приходит иногда очень поздно.
При этом перечитывание — высший кайф. Меня очень раздражает, бесит, что сейчас люди часто воспринимают текст исключительно как некую информацию. На самом деле, этот взгляд на вещи не имеет абсолютно никакого отношения к литературе. Литература строится, конечно же, на гедонизме, на наслаждении. Это все равно, что онанизмом заниматься, мастурбацией. Вот ты смотришь на фотографию голой девушки — и сколько бы раз ты на нее ни помастурбировал, каждый раз это будет будто совершенно другая фотография. То же самое и с литературным текстом — схема такая же. В общем, дрочите, дрочите, читайте и дрочите, дорогие читатели.