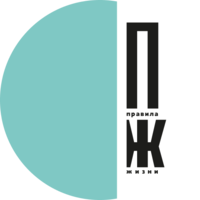В раннем отрочестве я читал книги Стивенсона, Хаггарда, «Тиля Уленшпигеля» Шарля де Костера, а чуть постарше — Бальзака, Толстого, Достоевского, Тургенева. В целом это довольно типичное чтение для ребенка из гуманитарной петербургской семьи. Мои сверстники, чьи родители принадлежали к технической интеллигенции, больше увлекались научной фантастикой — Брэдбери, Шекли, Азимов, братья Стругацкие, — а я тогда ничего этого не читал и даже в зрелом возрасте так и не приобрел к этому никакого вкуса. К элементам научной фантастики у некоторых авторов, например у Курта Воннегута, я отношусь с некоторой симпатией, но в целом фантастика меня по-прежнему особо не занимает. Видимо, сказалось слишком гуманитарное, классическое воспитание.
Писатель Андрей Аствацатуров — о талантливых русских авторах, Бродском и о том, каково это — расти в семье филологов

О чтении ребенка в филологической семье
Об эротической классике
Некоторые книги из тех, которые в советских учебниках литературы именовались «озорными», мне читать не разрешали. Как-то я заметил на полке книгу «Война богов» Эвариста Парни — название мне показалось интересным: ну как же, боги воюют, хотя имя писателя мне ни о чем не говорило. Спросил у родителей, про что книжка. Думал, что они как-то похвалят мой интерес, но мама с папой сразу как-то напряглись, забеспокоились. Помню, книга тут же исчезла с полки — мама куда-то ее переставила с глаз долой. Но я очень скоро ее нашел, принялся читать и был, как вы понимаете, в полном счастье и восторге. В тот самый раз, когда я спрашивал про «Войну богов», родители уединились на кухне, но я слышал сквозь приоткрытую дверь, как мама полушепотом сказала отцу: «Давай-ка еще "Золотого осла" от него на всякий случай спрячем». Естественно, найдя и прочитав «Войну богов», я тут же нашел «Золотого осла» и его прочитал. Где-то к 15 годам шедевры «озорной» классики, включая «Орлеанскую девственницу» Вольтера и «Декамерона» Боккаччо, были мной внимательно прочитаны и перечитаны. Чуть более занудливыми мне показались «Блеск и нищета куртизанок», озорные рассказы Бальзака и «Милый друг» Мопассана.
Американская литература как подростковый бунт
В молодости все бунтуют, и я не стал исключением: дружил не с теми, встречался с девушками, которых родители решительно не одобряли, слушал рок-музыку, от которой они приходили в ужас. Но был и некий интеллектуальный протест: я увлекся литературой США, которую родители не любили и не понимали. Мама занималась русской классикой, писала диссертацию о Толстом, а отец исследовал немецких романтиков — Шиллера, Гете, увлекался Томасом Манном. Американских авторов, за исключением Фолкнера, родители не считали серьезными и глубокими. А я их обожал. А я читал Сэлинджера, Воннегута, Харпер Ли, Бел Кауфман. Интересно, что отец, уже много позднее, открыл для себя и Апдайка, и Сэлинджера, прочитал их по-настоящему и оценил. Отчасти это произошло благодаря мне.
О запрещенных книгах и перестройке
«Самиздат» и «тамиздат» родители от меня старательно прятали, еще старательнее, чем «озорную» литературу, — боялись, что я сболтну лишнего в школе. Тем не менее кое-что из запрещенных и полузапрещенных текстов я читал — у дедушки (Виктор Максимович Жирмунский — знаменитый советский, филолог, литературовед, академик АН СССР. — Правила жизни) было много книг, в частности американские издания Ахматовой, Мандельштама, Пастернака.
Но в конце восьмидесятых, когда полным ходом шла перестройка, я для себя открыл очень многое: Владимира Набокова, Андрея Платонова, Владислава Ходасевича, Гайто Газданова. Помню, прочитал в журнале «Октябрь» безусловный шедевр — роман Саши Соколова «Школа для дураков», а в «Знамени», кажется, роман Лимонова «У нас была великая эпоха». Еще в те годы, в конце 1980-х, я выписывал латышский журнал «Родник», который публиковал «Лолиту» Набокова, произведения Ницше и современных авторов, которых мы мало знали. Например, так я открыл для себя писателя-концептуалиста Аркадия Бартова и его «Завтраки у литераторов».
О Бродском
Естественно, у нас дома были тексты Бродского, старательно отпечатанные на машинке кем-то, кто очень рисковал. Бродский был хорошим знакомым нашей семьи. Он часто заходил к нам на дачу в Комарово и много общался с моим дедом. У них в конце 1960-х даже был совместный проект по изданию стихов поэтов-метафизиков Джона Донна, Эндрю Марвелла, Джорджа Герберта. Бродский должен был сделать переводы, а дед — написать статью и составить комментарии. Дед был академиком, и проект был утвержден, но так и не сбылся: в 1971 году дед скончался. Некоторые переводы Бродского, которые он готовил для этого издания, сохранились и были потом опубликованы. Это по сей день непревзойденные переводы: они демонстрируют невероятное поэтическое мастерство и глубокое понимание поэзии барокко. Бродский переводил очень медленно, тщательно, отвлекаясь на собственное творчество, которое для него имело первостепенное значение, — отчасти поэтому проект задержался, а потом и вовсе не состоялся.
О книге, изменившей жизнь
В студенческие годы настоящим открытием для меня стал Венедикт Ерофеев и его «Москва — Петушки». Что интересно, я не держал в руке книги, а слушал ее по радио — BBC или «Голос Америки», я уже не помню. Там диктор-чтец очень интересно, с точно выверенной интонацией, артистично зачитывал главы из романа. Я сразу, как только услышал первые главы, подключил к приемнику магнитофон и стал записывать «Москву — Петушки» на аудиокассету, а потом многократно слушал по несколько раз и наслаждался этой поэтической прозой. Несколько глав я даже выучил наизусть и потом декламировал их в филологических компаниях. Этот текст для меня был шоком, неожиданным открытием. Сильная, проникновенная игра в литературу, интеллектуальное жонглирование знакомыми цитатами. Прежде я ничего подобного не читал. Можно сказать, что эта книга изменила мою жизнь.
Путь к «Улиссу»
К английской литературе у меня был скорее академический, исследовательский интерес, нежели читательский. В 1988 году, на втором курсе, я по совету отца решил заняться английским романтизмом. Долгое время не знал, на каком авторе остановиться. Байрон мне казался чересчур банальным, затасканным, им занимался в свое время мой дед, потом по его стопам многие, и я выбрал для себя Шелли — философского, вдохновенного лирика, выдающегося поэта, ничуть не уступавшего Байрону. Но потом интерес к Шелли и к английскому романтизму у меня пропал. На третьем курсе я стал читать модернистов и переключился на Джеймса Джойса. Я написал курсовую о «Портрете художника в юности», а на четвертом курсе стал заниматься «Улиссом», написал объемную курсовую о музыкальных аллюзиях в «Улиссе», затем диплом. В аспирантуре в качестве темы для кандидатской я выбрал Томаса Элиота, ключевую фигуру эстетики и поэтики британского модернизма, и его поэму «Бесплодная земля». Это сложная, интеллектуальная, необыкновенно мрачная поэзия, предлагающая урбанистическую версию апокалипсиса, и одновременно смешная и игровая.
Ворованный воздух: чтение для своих романов
В моем последнем романе «Не кормите и не трогайте пеликанов» действие первых трех глав происходит в Лондоне — так сложилось, что я три раза подряд туда ездил. Я сначала наблюдал лондонские парки — сидел, ходил, рассматривал, вел постоянные заметки, обдумывал, как это описать, на что это похоже. Потом некоторое время жил в Хэмпстеде — очень литературном месте, где жили Джон Китс, Дафна дю Морье и еще много разных писателей. По вечерам у меня были лекции, а днем я был предоставлен сам себе и часами гулял. Вернувшись в Питер, я перечитал тексты, где описывается Хэмпстед, внимательно перечитал биографию Лондона, написанную Питером Акройдом, перечитал Диккенса, его лондонские пассажи. У меня было собственное видение Лондона, но я сознательно вырастил его из текстов других авторов, попытался связать в единое целое свой личный опыт и литературный опыт своих предшественников. Я хотел показать Лондон, с одной стороны, глазами туриста, с другой — глазами обитателя Хэмпстеда, создать литературный образ этого пространства.
То же самое у меня происходило с Петербургом, который описан в двух других главах моего романа. Когда ты пишешь об Петербурге, особенно Петербурге имперском, ты сознательно или бессознательно обращаешься к текстам Пушкина, Гоголя и Андрея Белого. Я перечитывал роман Белого «Петербург», чтобы сделать интерьеры такими мегаимперскими, потому что Белый четко описывал эту имперскость, классичность на уровне бытовых деталей, и часть образов я позаимствовал у него.
Описывая Петербург в своем предыдущем романе «Осень в карманах», я опирался в какой-то степени на лекцию Дмитрия Быкова о «Медном всаднике» Пушкина. В ней Быков упоминал некоторые тексты, писавшиеся по мотивам «Медного всадника», — например, знаменитое стихотворение Нонны Слепаковой, которое я не знал и сразу кинулся читать.
Когда я писал о Париже, естественно, я прочитал всех американцев, которые писали о Париже, — не французов, а именно американцев. Мой коллега, один специалист по Франции, так сказал мне: «Знаешь, у тебя получается, будто американец приехал в Париж». Мой Париж действительно похож на Париж Хемингуэя, Дос Пассоса, Генри Миллера.
Мне кажется, текст о городе состоит из совокупности всех текстов, написанных о нем. Не важно, читаем мы или не читаем Пушкина или Белого — их тексты уже сформировали некий код и наше отношение к городу. Оно присутствует на открытках, во взгляде фотографа, в каких-то детских играх. Это пушкинский взгляд, или взгляд Мандельштама, Ахматовой, или того же Бродского. Конечно, я читаю о городе, о котором пишу, — это называется «знать матчасть». Это я всегда учу.
О современной русской прозе: от Глуховского до Водолазкина и Елизарова
Из последнего мне очень понравился замечательный роман Евгения Водолазкина «Брисбен». По-моему, это очень серьезный шаг вперед по сравнению с «Авиатором». Это исполненный лиризма, душевной муки, невероятной силы текст, едва ли не лучше «Лавра», хотя, конечно, «Лавр» не был превзойден по игре, по форме и по характеру героя.
Также могу отметить роман «Текст» Глуховского. Мне кажется, Дима продемонстрировал, что он сильный писатель и может не только придумывать жанровую литературу, но и сочинять крайне серьезную, умную и очень остроумную прозу.
Мне нравится проза Ольги Славниковой, которая пишет в традиции Казакова, Набокова, Бунина; мне нравится проза Дмитрия Быкова, хоть часто я с ним не согласен ни идеологически, ни эстетически — но это лишь означает, что его тексты нужно читать, они стимулируют ответную реакцию. Я очень люблю неоготику Михаила Елизарова и считаю, что он, возможно, один из лучших современных российских писателей — во всяком случае, по характеру работы со словом, с образной системой, мне кажется, ему равных сейчас нет. У него все крайне органично. Я люблю философскую, идеологически насыщенную прозу Германа Садулаева. Мне нравится Илья Бояшов, мне кажется, он абсолютный маг прозы. Еще отметил бы Ильдара Абузярова, магический реализм Лоры Белоиван, психологическую прозу Андрея Геласимова. Современный литературный процесс очень многовекторен, уловить тут какую-то единую тенденцию достаточно сложно.
О современной зарубежной прозе
Современную зарубежную прозу я читаю чуть меньше. Из интересных авторов выделю Джулиана Барнса. Я его люблю и стараюсь следить за его творчеством. Мне нравится Тибор Фишер, это автор совершенно блистательных романов «Философы с большой дороги», «Коллекционная вещь», «Путешествие на край комнаты». Тибор Фишер меня действительно увлекает, куда больше, чем, например, модный некогда Уэлш, хотя я читал его с большим интересом. Даже не самые удачные романы и рассказы Фишера как-то резонируют с моим отношением к жизни.
О чтении для ребенка
Я стараюсь своему сыну Гоше — ему три с половиной года — помимо проверенной годами классики читать современную детскую литературу. Например, есть замечательная детская книга «Братья Гавв», написанная петербургской писательницей Ольгой Коханенко. Там интересный детективный сюжет: два щенка ведут расследование. Сын с удовольствием это слушает и мотает на ус, ему очень нравится, хотя там и написано «шесть плюс», а ему три с половиной. Сейчас много детской литературы, она не вся, может быть, качественная, но вот та же Ольга Коханенко, которую я назвал, — очень сильный и перспективный писатель. Наринэ Абгарян — прекрасный современный автор, у нее есть произведения для взрослых такого киплинговского толка, очень красивые, очень экзотические, Восток — Запад, сложные проблемы, душа почвы. И есть детские произведения типа «Манюни» и «Семена Андреича», которые я тоже очень люблю. Их еще рано читать моему сыну, но они у меня стоят дома, я иногда их открываю и жду момента, когда смогу ребенку прочитать.
О книге для литературных гурманов
Недавно я прочел прекрасную книгу, которая, наверное, будет интересна только литературным гурманам, но я все равно считаю своим долгом обратить на нее внимание читателей. Это книжка Миланы Алдаровой «Дедал», которую выпускает издательство «Искусство–XXI век». Она написана уже в откровенно немодном жанре оратории отчасти ритмизованной прозой, отчасти стихами. Книга писалась в 1980-е, но издана только сейчас. В ней воссоздается греческий миф, причем таким образом, что ты оказываешься как бы внутри этого пространства, внутри человеческих точек зрения. Ты читаешь этот текст и понимаешь, что есть какой-то внечеловеческий замысел, какая-то судьба, олимпийцы создают этот пазл, в который вплетаются судьбы всех людей и всего космоса. «Дедал» — диалог не с десятилетием, как обычно происходит, а с вечностью. Это событие в литературе, на которое откликнулись позитивно те люди, у которых действительно хороший вкус.