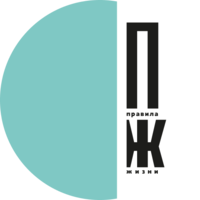ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯСНИМОЕ
Чужие страдания и тьма непознаваемого: фрагмент сборника эссе «Мужчины учат меня жить» американской писательницы и активистки Ребекки Солнит

«Будущее лежит во мраке — и это, думаю, лучшее, что может быть с будущим», — так 18 января писала в дневнике почти 33-летняя Вирджиния Вулф. Это были дни, когда Первая мировая война только начинала превращаться в катастрофическую, беспрецедентную бойню длиной в несколько лет. Бельгию оккупировали, весь континент был охвачен войной, многие европейские страны вели захватническую политику в далеких уголках мира, только что открылся Панамский канал, американская экономика была в чудовищном состоянии, итальянское землетрясение только что убило 29 человек, немецкие цеппелины готовились сбросить бомбы на Грейт-Ярмут, впервые в истории атакуя мирное население с воздуха, и всего через несколько недель немцы впервые применили ядовитые газы на Западном фронте. Но Вулф, должно быть, писала не о будущем мира, а о своем собственном.
Менее полугода назад она пережила эпизод безумия и депрессии, увенчавшегося попыткой самоубийства, и за ней все еще приглядывала медсестра. До тех пор ее безумие развивалось практически параллельно войне, но Вулф смогла излечиться, а война только начинала свою кровавую историю длиной почти в четыре года. Будущее лежит во мраке — и это, думаю, лучшее, что может быть с будущим. Невероятное заявление, подразумевающее, что неизвестную потребность не обязательно превращать в известную путем слепого тыканья или проекций мрачных политических или идеологических дискурсов. Это триумф тьмы самой по себе, которая стремится — так я толкую ее «думаю» — не быть уверенной даже в своем собственном утверждении. Большинство людей боятся темноты. Многие дети — в буквальном смысле, а взрослые чаще всего страшатся тьмы неизвестного, невидимого, неощутимого. И все же та ночь, в которой невозможно точно определить и различить вещи, — это та же самая тьма, где предаются любви, где сливаются, меняются, зачаровываются, возбуждаются, засеваются, обладаются, высвобождаются и обновляются сущности.
Начиная писать эту статью, я отрыла книгу Лоренса Гонсалеса о выживании в дикой природе и обнаружила там вот какую фразу: «План — воспоминание о будущем — примеряет на себя реальность, проверяя, сойдется ли». Иначе говоря, когда что-то кажется нам несовместимым, мы часто продолжаем держаться за план, игнорируя предупреждения реальности, и нередко попадаем в беду. Боясь темноты неизведанного, боясь возможности видеть лишь смутные очертания, мы часто предпочитаем темноту закрытых глаз, темноту забвения. «Ученые обнаружили, — продолжает Гонсалес, — что любую информацию человек воспринимает как доказательство своих убеждений. По природе своей мы оптимисты, если понимать оптимизм как убежденность в том, что каким мы видим мир — такой он и есть. А если у нас есть план, то проще простого видеть только то, что мы хотим видеть». Видеть больше — работа писателей и исследователей. Их дело — путешествовать налегке, без груза предрассудков, входить во тьму с широко раскрытыми глазами.
Далеко не все они готовы так поступать, и далеко не всем это удается. Научная литература наших дней все больше напоминает художественную — и это не льстит художественной, в том числе потому, что слишком много авторов не могут примириться с тем фактом, что прошлое, как и будущее, объято тьмой.
Мы не знаем очень многого, а чтобы правдоподобно писать о любой жизни — своей, жизни своей матери или какой-то знаменитости, — о событии, о кризисе, о другой культуре, нужно раз за разом сталкиваться со сгустками тьмы, плутать в ночи истории, там, где никто ничего не знает. Нам говорят, что познанию есть предел, что существуют изначальные тайны: взять хотя бы тот факт, что наши знания — это лишь мнение или ощущения других людей, не располагавших точной информацией.
Весьма часто мы не знаем чего-то даже о самих себе, не говоря уже о людях, умерших в такие времена, которые и близко не похожи на наши. Заполнение пустот заменяет не до конца открытую истину ложным ощущением, что мы знакомы с ней. Мы знаем меньше, когда ошибочно думаем, что знаем, чем когда признаем, что это не так. Порой мне кажется, что причина таких претензий на авторитетное знание коренится в несовершенстве языка: язык смелых предположений проще и менее обременителен, нежели язык нюансов, двусмысленностей. В этом втором языке Вирджинии Вулф не было равных.
Чем ценна тьма, путешествие незнающих в непознанное? Вирджиния Вулф упоминается в пяти моих книгах, написанных в новом столетии: «Не сидится на месте» (Wanderlust) — историях о моих пеших прогулках; «Как сбиться пути: практическое руководство» (A Field Guide to Getting Lost) — о блужданиях и неизведанном; «Наружу» (Inside Out) — о доме и мечтах о нем; «Далёкое близкое» (The Faraway Nearby) — о сторителлинге, эмпатии, болезни и неожиданных взаимосвязях вещей; и, наконец, в маленькой книжке «Луч надежды во тьме» (Hope in the Dark), посвященной власти народа и тому, как происходят изменения.
Вулф для меня была краеугольным камнем, одной из богинь моего пантеона — вместе с Хорхе Луисом Борхесом, Исак Динесен, Джорджем Оруэллом, Генри Дэвидом Торо и кое-кем еще. Даже в ее имени есть что-то дикое. Французы называют час перед рассветом entre le chien et le loup — «меж собакой и волком». Нельзя не согласиться, что, вступая в брак с евреем в Англии того времени, Вирджиния Стивен выбирала не самую проторенную дорогу: в стороне от привычных маршрутов своего класса и времени. Волков — wolves или woolfs — много; моя же стала своего рода Вергилием, сопровождающим меня на пути блужданий и заблуждений, безликости, погружения, неуверенности и неизвестности. Ее фразу о темноте я поставила эпиграфом к книге 2004 года Hope in the Dark, где речь идет о политике и о возможностях. Она была написана, чтобы что-то противопоставить отчаянию: Буш только что санкционировал введение войск в Ирак.
ПОСМОТРИ — ОТВЕРНИСЬ — ПОСМОТРИ ВНОВЬ
Я начала свою книгу с той самой фразы о тьме. Критикесса и эссеистка Сьюзан Зонтаг, чья Вулф несколько отличается от моей, начала свою книгу 2003 года об эмпатии и фотографии — «О боли других» (Regarding the Pain of Others) — цитатой из более поздней Вулф. Вот так: «В июне 1938 года Вирджиния Вулф опубликовала работу под названием "Три гинеи" — смелые, "неудобные" размышления об истоках войны». Дальше Зонтаг рассказывает, что Вулф в вопросе, с которого начинается книга, отказывается от слова «мы»: «Как, по-вашему, мы должны предотвратить войну?» — на который она отвечает фразой: «Как женщина я не имею страны».
Зонтаг полемизирует с Вулф об этом «мы», о фотографии, о возможности предотвратить войну. Делает она это с уважением, с пониманием того, что исторические обстоятельства с тех пор радикально изменились (в том числе женщины перестали быть аутсайдерами в жизни), с осознанием утопичности идей времен Вулф о том, что с войнами якобы можно покончить раз и навсегда. Она спорит не только с Вулф. Спорит она и с самой собой, опровергая свои прежние аргументы из знаменитой книги «О фотографии» — о том, что изображения жестокости оту пляют нас: теперь Зонтаг пишет, что нам нужно смотреть и смотреть. Ведь жестокостям нет конца, и как-то нужно иметь с ними дело.
В завершение своей книги Зонтаг делится мыслями о людях, воюющих на войне, подобной иракской и афганской. Вот как она пишет о людях на войне: «Мы» — под «нами» я понимаю всех, кто никогда не переживал того, что пережили они, — этого не понимаем. Нам этого не дано. Нам ни за что не представить, каково это было. Мы не можем уразуметь, насколько чудовищна и ужасна война и какой привычной она может стать. Не можем понять. Не можем представить». Зонтаг тоже призывает нас осмыслить тьму, неизведанное, невозможность познания, чтобы поток материала, обрушивающийся на нас, не смог убедить нас, будто мы что-то понимаем, и лишить чувствительности к страданию. Знание, утверждает она, может как ослабить, так и пробудить чувства. Но она не считает, что противоречия можно изгладить; она разрешает нам продолжать смотреть на фотографии; она дает изображенным на них людям право на признание непознаваемости их опыта. И еще она признает, что, даже если мы не в состоянии доподлинно познать, мы всё равно можем быть неравнодушны.
Зонтаг не касается нашей неспособности реагировать на совершенно неразличимое страдание, ведь даже в наши времена, когда каждый день мы читаем о потерях и страданиях, как любительские, так и профессиональные материалы о войнах и кризисах, — все равно многое остается «за кадром». Правящие режимы готовы пойти на многое, чтобы скрыть от нас убитых и живых, преступления и коррупцию. И все-таки даже в этих условиях кто-то остаётся неравнодушным.
Та Зонтаг, которая начала свою карьеру общественной деятельницы с эссе под названием «Против интерпретации», сама являла собой образец неопределенности. В начале этой своей работы она пишет: «Начальный опыт искусства был, вероятно, колдовским, магическим...» Далее по тексту добавляет: «Ныне как раз такое время, когда интерпретация — занятие по большей части реакционное и удушающее. Это месть интеллекта миру. Истолковывать — значит обеднять». И, разумеется, вся ее дальнейшая жизнь — акт интерпретации, который в самые выдающиеся моменты вместе с Вулф сопротивляется наклеиванию ярлыков, чрезмерному упрощению и слишком легким выводам.