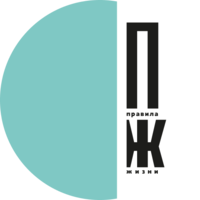Пятигорский А. М. «Свободный философ Пятигорский»

© К. Р. Кобрин, статьи, 2015
© О. С. Серебряная, статьи, 2015
© Н. А. Теплов, дизайн обложки, 2015
© Издательство Ивана Лимбаха, 2015
Необычайно долгую жизнь прожил Джон Дьюи, американский философ, логик и психолог. К нему можно применить шуточное высказывание, что он родился раньше всех и умер позже всех. В самом деле, в срок его жизни (1859–1952) вошли жизни буквально всех философов Новейшего времени. И он, несомненно, остается вторым крупнейшим американским философом после Уильяма Джеймса. Но в этой передаче я буду говорить не о принципиальных основах его философии, но лишь о тех ее моментах, которые явились его непосредственной реакцией на те изменения мира, какие требовали немедленного осознания, а иногда и действия. Эти моменты были подробно разъяснены им в книге «Свобода и культура», изданной в 1939 году, когда ему было восемьдесят лет. Но и тогда он думал и действовал, как если бы ему было тридцать. Замечу в скобках, что спустя тридцать лет эта книга вышла на русском языке в Лондоне в превосходном переводе Машковского и с очень умным предисловием Романа Редлиха. Почти до самого конца Америка оставалась философской периферией, далекой провинцией германской и особенно английской философии; и это не оценка, а факт. Россия до Соловьева также не имела своей собственной философии, однако и здесь есть существенное различие. В России философская активность имела по преимуществу характер религиозный и социальный, а очень часто и религиозно-социальный, как у Леонтьева и Толстого; в то время как американцы с самого начала явно тяготели к позитивизму Спенсера и утилитаризму Миля. Исторически русское философствование было связано очень тесно с чисто практически-религиозным движением и исканиями, в то время как религиозная жизнь в Штатах, хотя и необычайно активная, оказалась почти полностью изолированной от философии. Дьюи в этом отношении типичный американец, и сама проблематика его философии совсем иная, чем русская или немецкая, в его реакции на те изменения в культуре, которые принесли с собою войны, революции и послевоенные события.
Главный вопрос, который ставит Дьюи, — что такое свобода: о чем мы говорим, когда мы говорим о свободе? Свобода у него — не низовая социальная свобода, как у Чернышевского, не свобода внутри личности, понимаемой как атом социального целого, как у Шпенглера, и не свобода духовная, как у Соловьева. Для него это свобода личности в культуре. Но лежит ли свобода в человеческой, как у Гегеля, или божественной, как у Соловьева, природе человека? Заметьте, что Первая мировая война нанесла самый страшный удар не по концепции демократии и социальной справедливости, а по идее свободы, природной для человека, по идее человеческой природы вообще. По идее, которая безраздельно правила умственными усилиями культурного мира от Руссо через Гегеля вплоть до, скажем, позднего Толстого и до советского Горького.
Дьюи, будучи на периферии культуры, где правила эта идея, воспринимал ее в варианте Джефферсона, который вместо феноменологии свободы написал Конституцию Соединенных Штатов Америки. Поэтому он и считал, что мы можем говорить только о свободе личности в культуре. Отказываясь определять равно свободу и культуру, Дьюи характеризует культуру (это очень интересная характеристика) как усложнение условий жизни людей в их взаимоотношениях друг с другом и как осознание людьми этого усложнения. Таким образом, свобода у Дьюи оказывается той личностной ценностью, которая либо конституируется в культуре данного общества, превращаясь в то, что называется демократической свободой, как в США и большинстве западных стран, либо остается нереализованной потенцией личности, реализация которой вводит личность в прямое противоречие с государственным строем, как в СССР, фашистской Германии (до расцвета нового Китая Дьюи не дожил). К этому можно добавить еще и третий случай, когда структура самой культуры, не говоря уже о государственном строе, не включает в себя личную свободу в качестве самостоятельной и самодовлеющей ценности: как, скажем, в прусской этатистской культуре, довоенной японской культуре, дореформенной русской и классической китайской культуре.
В самом начале Дьюи делает одно замечание, исторически и философски исключительно важное. Важное в том отношении, что оно прежде всего распространяется на все культуры и сохраняет свою силу и для нашего времени. И здесь он ссылается опять на Джефферсона. Мы вынуждены признать, что требуются позитивные условия для формирования существующей культуры. Освобождение от гнета и репрессий, существовавших прежде, означало только необходимую переходную стадию. Но переходные стадии — всего лишь мосты к чему-то другому. То есть, для того чтобы свобода вошла в культуру и оставалась в ней в форме демократии, требуется, по его же выражению, непрерывное состояние обеспокоенности насчет свободы. Это означает, что члены всякого общества должны всегда быть бдительными, чтобы государство не стало единственной реальной формой социальности, то есть, попросту, чтобы оно не стало тоталитарным. В этом смысле очень характерна непрекращающаяся борьба с религиями в тоталитарных государствах. И Дьюи настаивает, что хронический конфликт с Церковью в России вызван не прихотью вождя и даже не атеизмом самой системы, как полагал Бердяев, а природой не <только> русского тоталитаризма, а тоталитаризма вообще как мирового явления. Если смотреть на тоталитарный строй извне... Заметим, что Дьюи никогда не впадал ни в панику, ни в истерику насчет фашизма или коммунизма, за что и был назван в Большой советской энциклопедии идеологом войны и фашизма. То есть, повторяю, если смотреть на это со стороны, то сам факт подчинения народа тоталитарному режиму может показаться коллективной галлюцинацией. На самом же деле это не только галлюцинация и не только внешнее принуждение. Это еще и отсутствие в культуре позитивных установок в отношении свободы. Ибо сейчас проблема свободы может рассматриваться только в контексте культуры, то есть в том контексте, который складывался до того, как эта проблема возникла. Не замечательно ли, что еще в начале прошлого века Гегель, а ровно через сто лет после него Шпенглер утверждали исторический приоритет свободы в рамках государства прусского — перед всякой другой свободой. Английский вариант с презрением назывался эгоистическим или торгашеским. И не был ли крайний и уж во всяком случае отвергавший всякую свободу суждений нигилизм русских террористов прошлого века перевернутым изображением этатизма петербургской культуры? Личная свобода, которая, согласно Руссо, была естественным правом человека, многим немецким философам казалась всего лишь свободой животной разнузданности. И в России, и особенно в Германии некое универсальное право полагалось источником более высокого порядка, чем свобода.
Предчувствие существования некоего предельного социального порядка, отличного как от природы, так и от существующих систем государственной власти, играло важную роль во всех социальных философиях, созданных, подобно марксистской, под прямым влиянием немецкого идеализма. Эта идея, по мнению Дьюи, выполняет роль, которую когда-то играла идея Второго пришествия. Идеальная государственная система вместо Второго пришествия. Поэтому всякий тоталитарный режим имеет реальную поддержку в культуре; и питает его не только философский идеализм, но и практический идеализм людей, живущих под этим режимом. Всякий раз речь идет именно о той самостоятельной тенденции против свободы, которую мы находим в культурах стран, подпавших под власть тоталитарных режимов. При этом культура в других отношениях в этих странах может быть феноменально развита. Так, например, во всей мировой истории едва ли найдется страна с таким высоким качеством школ и университетов, как Германия, или с такой литературой, как Россия. «И несмотря на это, — говорит Дьюи, — именно эти школы в Германии обеспечили интеллектуальный уровень фашистской пропаганды, а университеты оказались центрами реакции в Германии двадцатых годов». Таким образом, образование само по себе не является фактором свободы, так же как и литература. И Дьюи приходит к простому и, пожалуй, даже тривиальному выводу: что один из важнейших факторов, объективно действующих сейчас против свободы и за установление тоталитарных режимов, — это феномен среднего человека. То есть человека, который ничего не производит и который лишь потребляет вещи и продукты, человека, который ни о чем не думает и который лишь потребляет интеллектуальные ценности, которые ему преподносятся или продаются готовыми другими людьми. Он пассивен не только как производитель конкретных вещей и идей, но и как человек, который не участвует реально в культуре. Дьюи полагает, что создатели теории естественного человека и естественного права не могли предусмотреть такого феномена. Средний человек тогда еще только возникал. Сейчас он и статистически огромная сила. Личная свобода ему не нужна, ибо он боится связанной с нею личной ответственности. Он силен только в массе, которая часто сначала принимает, только принимает тоталитаризм, — а потом она его не хочет, но его терпит. Здесь же огромную роль играет и монизм, стремление к уединоображиванию в культуре. Отклонение от истины, ошибка в такой культуре равна преступлению. Так работает монизм, тот монизм, который на уровне власти и борьбы за власть практически реализуется сначала в абстрактной диктатуре пролетариата над всем остальным населением, затем в диктатуре партии над пролетариатом и, наконец, в диктатуре маленькой кучки партийных бюрократов над партией. Над той партией, которая, по словам Дьюи, усвоила все репрессивные методы сброшенного царского деспотизма, значительно усовершенствовав при этом технические приемы их осуществления, не говоря уже о несравнимых масштабах этих репрессий. И этот же монизм как элемент русской культуры нашел свое выражение в том, что, после того как была совершена революция, характер которой определялся другим важнейшим элементом той же культуры — ее радикализмом, отсутствием в ней либерализма, Россия за несколько лет проделала путь от теории отрицания роли личности в истории (результат радикализма) до византийского низкопоклонства перед вождями. Так показывает Дьюи на исторических примерах России и Германии характер культур, их определяющее влияние в формировании государственного строя. Он показывает, как тип культуры определяет свободу или отсутствие этой свободы.
Здесь особенно интересен тот факт, что вся философия Дьюи как бы исходит не только из американской действительности в целом, но и из того ее идеала, который нашел свою форму в образе Джефферсона и в созданной им конституции. Дьюи считает, как и должен был считать философ-прагматист его типа, что, для того чтобы бороться за свободу, необходимо знать, что это такое. Он и совершил такую попытку, написав в восемьдесят лет эту книгу. Интересно, что, когда ему было семьдесят девять лет, он затеял процесс по оправданию Троцкого. Будучи принципиальным врагом Троцкого, он был так возмущен опубликованными материалами процесса в Москве, что на основании тех же материалов устроил вместе с рядом американских юристов пересмотр этого дела. В результате пересмотра Троцкий был оправдан.