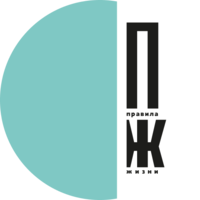Когда летом мы приезжали к родственникам отца в Баку, это означало, что теперь нужно говорить только на одном языке. Правда, с каждым годом это становилось всё сложнее делать, родственники часто шутили над нашим акцентом, а русские слова со временем вытеснили азербайджанские эквиваленты. Я заметила, что большинство людей знали русский язык, были даже те, кто закончил азербайджанские школы, где обучали на русском языке, они назывались русским сектором, иногда мне казалось, что мы вовсе не уезжали из России. Мой язык с трудом переключался на тюркскую артикуляцию: говорить по-русски было значительно легче, русский язык уверенно двигался во рту и издавал звуки рубленые, звучные, громкие, резкие, похожие на огромный нож мясника — правда, этот же нож отрезал и второй язык. Язык матери и отца, язык матери моей матери и матери моего отца — мягкий, текучий, в нем один звук плавно переходит в другой, язык стремительный и быстрый, как горные реки Азербайджана, язык, ускользающий от меня в белом густом тумане Габалы. Я теряла язык постепенно, как медленно отказывающий орган, вначале мне казалось, что я всегда смогу вернуть его, включить обратно в любой момент, когда он мне потребуется. Но время шло, а слов на азербайджанском становилось всё меньше: орган перестал выполнять свою функцию, он лежал безвольный во рту. Родители боялись, что, если они не будут говорить с нами по-русски, мы не сможем выучить язык и учиться, поэтому внутри дома всё чаще звучала русская речь, затем в нем стали появляться и книги на русском языке.
Чтение выходного дня: фрагмент книги «Руки женщин моей семьи были не для письма» Еганы Джаббаровой

Первые книги жили в детской библиотеке недалеко от дома, куда я ходила как на работу — библиотекари уже узнавали меня и ласково откладывали новинки. Я любила бродить по отделам и набирать самые разные книги: помню, как зачитывалась японским писателем Масахико Симадой, как рассматривала книгу Дейла Карнеги, читала испанские детективы — все эти книги были на русском языке, русский язык стал посредником между мной и миром книг. Книги казались мне легализованными джиннами: они поглощали сознание и сворачивали время в тонкую трубочку, рассказывали истории о тех, кто похож и совсем не похож на меня, о любви и преданности, о смерти и умирании, они разговаривали со мной и были портативными убежищами. Отправляясь к родственникам отца в Баку или к родственникам мамы в маленькую грузинскую деревню, я всегда брала с собой несколько увесистых книг. Они помогали мне спрятаться от чувства стыда за ужасное произношение, смешной акцент, за забытые фразы и бытовые выражения, за свою неправильность и странные желания. На всех семейных фотографиях мое лицо было надежно скрыто за книгами, может быть, из-за этого биби прозвала меня «русским профессором». Каждый раз, когда на общем застолье родственники подшучивали над нами с сестрой и ласково именовали rus bala, внутри меня что-то ломалось, я не понимала, почему они считают нас русскими детьми, ведь в России каждый день напоминал об обратном: мы не были русскими детьми — именно это не устраивало одноклассников и окружающих, мы были чужаками. Где тогда дом, если и здесь мы не считались своими? не мыслились как часть мира? Получается, мы не подходили ни к одному из миров, как бракованные детали пазла. Что происходит с деталями пазла, которые не подходят, как их не поверни, существует ли место для таких деталей? И где в таком случае «родина»? А может мы действительно стали rus bala, ведь мы писали и читали по-русски, почему случилось так, что единственный язык, на котором я могла выражать себя, не находил для меня ласковых обращений — он швырял в меня оскорбления, как мертвые зерна кукурузы, напоминал мне, что я черная, чурка, черножопая, чужая, чудовище, чужестранка, чужеродная, чуждая. Я стала частью этого языка, но он отравлял меня, подобно зараженной воде, слова горели, как трупы чумных больных, они вонзались в мое чужое тело, восточное женское тело, восточное женское болеющее тело, восточное женское болеющее полнеющее тело, как назвать это тело?
Мадина Тлостанова
«Всё будет хорошо, тебе еще долго придется собирать кукурузу»: биомифография Еганы Джаббаровой
Увы, нам пока не удалось развиртуализироваться с Еганой Джаббаровой, но даже опосредованное зумом, достаточно короткое общение с ней оставило впечатление чувствительности оголенного нерва, скрытой боли, мощной внутренней силы и осознанного стремления к преодолению. Теперь, прочитав ее повесть, я знаю почему.
Урсула Ле Гуин в своей своеобразной концепции письма противопоставляет истории охоты и убийства и истории жизни, которые можно уподобить логике собирательства. В первых всегда есть главный герой и его трофеи, линейный сюжет триумфа протагониста, а все остальные рассказы и персонажи лишь служат фоном или выступают статистами в главной фабуле успеха. Вторые принципиально нелинейны, как и процесс блуждания в поисках грибов, кореньев или ягод. Они многоуровневы и полицентричны, не выхватывают из жизни некую героическую конструкцию, а пытаются рассказать историю мира вообще, в которой нет главных и второстепенных героев, пафосных сюжетов и простой и ясной телеологии, делающей любую историю конвенционально увлекательной и поучительной для нашего дрессированного определенным образом восприятия. Повесть Еганы Джаббаровой, с ее искренней автобиографичностью, честностью свидетельства и при этом, казалось бы, наличием необходимых элементов Künstlerroman c женским художническим «я» в конфликте с окружением, – это именно такое письмо жизни, письмо собирательницы, а не охотника.
Я прочла этот сравнительно короткий текст залпом, на одном дыхании, а потом вернулась и перечитала уже медленно, с карандашом в руке, смакуя каждую деталь и по-писательски восхищаясь тем, как сделана эта обманчиво простая, компактная книга. История собирательницы Еганы Джаббаровой не могла быть линейной. Она фрагментарна, но составляющие ее виньетки взаимосвязаны и тесно переплетены. Они как бы цепляются друг за друга. Но открывается эта внутренняя взаимосвязь не сразу. Наиболее чудовищный факт, одновременно собирающий повесть воедино, прочно соединяющий ее мнимо разрозненные темы, сообщается как бы между прочим и в конце. Повествование подбирается к нему кругами, исподволь, петляет, запутывает времена и следы повторами с вариациями, периодически возвращается к ключевым событиям, но всякий раз, подойдя к бездне, останавливается, чтобы наконец сообщить нам вероятную причину болезни героини, причем сделать это, опираясь на объективный врачебный авторитет. Такой подход многократно усиливает шокирующий эффект, оставляя оглушенных читателей один на один с никак не откомментированным свидетельством.
Да, пожалуй, свидетельство – это точное слово. Эта книга безусловно исповедальная, она написана в пику репрессивному требованию молчать и не выносить сора из избы, терпеть хроническое обесценивание своей жизни, себя как личности, своей болезни, своих творческих устремлений. Измученная многолетней навязанной безъязыкостью, отсутствием реального собеседника с минимальной эмпатией, авторка доверяет своему тексту то, для чего нет человеческих ушей даже среди самых близких. И если прежде женщины в традиционных культурах нередко рассказывали о своих бедах и горестях священным деревьям, волшебным пещерам и рекам, зашифровывали их в молитвы или, как героиня романа Элис Уокер «Цвет темно-лиловый», сочиняли письма Богу, то Егана написала письмо миру и блистательно нарушила все табу, которые на нее когда-либо накладывались, сотворив при этом терапевтический текст.
Этому эффекту способствует и тот факт, что этот текст уподоблен человеческому телу, а один из его внутренних сюжетов является историей распознавания, узнавания собственного тела, его разрушения вследствие болезни и воссоздания заново. Вместе с alter ego авторки читатели движутся от бровей к глазам, волосам, рту, плечам, прослеживают руки, язык, спину, ноги, горло и живот героини и текста. И это не просто компендиум частей женского/литературного тела. Все они имеют метафорический смысл, а иногда и вовсе превращаются в метонимии. Горло – это не просто орган, но и способность петь, язык – это не только средство коммуникации, но и упругая мышца, позволяющая говорить. Причем их буквальные и символические функции незаметно перемешиваются, создавая немного пугающий эффект телесности текста. Например, говоря о забываемом ею родном языке, героиня утверждает, что «слов на азербайджанском становилось все меньше: орган перестал выполнять свою функцию, он лежал безвольный во рту».
За этой телесностью текста Еганы, мне кажется, маячит хорошо известный принцип «всего во всем», в соответствии с которым человеческое тело и все его части во многих эзотерических традициях уподоблялись универсуму и наоборот. Уильям Блейк поэтически выразил этот принцип в известных словах о «небе в чашечке цветка». Это своеобразная тоска по утраченной цельности и одновременно взаимозависимости и осознанию связи всего и всех в мире. Именно это ощущение силится ухватить авторка. И на мой взгляд, ей это удается. Ведь буквально у нас на глазах текст превращается в историю пересборки мира заново телом, временно победившим небытие. Под телом здесь я имею в виду не картезианское пренебрежительно отвергаемое в пользу разума тело, отсылающее «назад» к природе, а феминистское и деколониальное тело как творческого созидающего актора, чей разум есть важная, но не единственная часть тела. Это текст, отмеченный тем, что Элен Сиксу назвала когда-то «рефлексирующей чувствительностью», имея в виду, что текст создается не столько головными идеями, сколько непосредственно чувствами и эмоциями автора, причем нередко болезненными, а не приятными.
Более того, повесть написана не простым телом, а гибридом человеческого и технологического и сама она является текстом-химерой в родовом, жанровом и других смыслах. Это не роман воспитания и не постколониальная проза, вообще не проза и не поэзия в чистом виде, не спекулятивная беллетристика и не феминистское письмо становления, а всё это вместе взятое и что-то еще, чему пока нет названия. Впрочем, это все же поэтическая проза, что ощущается в ритмике, строении фраз, метафорах и образах. Страшную в сущности историю авторка расцвечивает поэтическим светом, делая ее менее невыносимой. У получившейся химеры болят и чешутся швы и металлические скобы, как и у тела, ее создавшего. Отсюда нарочитая сшитость на живую нитку, необязательность предложенного порядка сочленений. Ведь наша химера бродит в поисках ягод, грибов и кореньев для своей истории. Больное тело в дисгармонии с миром записывает историю, которую не может рассказать вслух. Выжившее тело, помнящее о спрятанной болезни, подбирает слова, чтобы описать свой опыт приноравливания к жизни заново.
Отторгаемое миром тело упрямо продолжает вить нить повествования, которое становится продолжением тела, его еще одним членом, тогда как тело выбирает себе медиум письма как форму экзистенции. Текст Еганы Джаббаровой настолько телесен, что его порой больно читать. Он словно выкручивает читателей изнутри и заставляет воспринимать нарратив корпорально, проходя по мере чтения через фантомные боли, очуждение, переобретение себя и мира. Книга необычайно остро передает ощущение скоротечности жизни, необходимости ощущать и любить ее в каждом миге и радоваться каждому проявлению. Героиня учится этому из-за болезни гораздо раньше и острее, чем это обычно происходит с людьми. Со времен так называемого феминизма сексуальных различий существует много авторок, которые осознанно пишут телом. Но в подавляющем большинстве случаев это постструктуралистская игра, тогда как в тексте Еганы метафора обретает буквальный и трагический смысл, не теряя при этом своей символической природы.
Более того, по тексту повести рассыпаны знаки связей с другой феминистской традицией, которая основана на собственном понимании телесности как сути, источника и инструмента творчества. Я имею в виду деколониальное шаманическое письмо в духе Глории Ансальдуа с ее концепцией la facultad (буквально визионерской способности) как специфического модуса мышления, понимания и пересоздания себя и мира. Ансальдуа определяет ее как «способность постигать в поверхностных явлениях смысл более глубинных реалий, видеть глубинную структуру под поверхностью». La facultad обитает в телах, подвергающихся систематической дегуманизации, и является их способом противостояния и ре-экзистенции, преодоления искусственных границ между мышлением и действием, разумом и телесностью, природой и культурой. Внутренняя свобода – это, пожалуй, главное свойство героини повести. Хотя она не всегда была такой. К переоценке ценностей и раскрытию ее la facultad как способности видеть то, что действительно важно, ценить различие и уникальность каждого опыта отдельной жизни привели болезнь, страдание и близость смерти. Но вещная природа этой повести не только болезненна, но и избыточно и невероятно прекрасна. Она ухватывает красочный пестрый мир во всех его проявлениях. И мы чувствуем вкус халвы, запах тлеющей гармалы, звуки свадебной песни и шум моря – все эти проявления жизни, несмотря на правила и запреты, страдания и похороненные мечты.
Одно из моих главных и первых читательских ощущений от прочтения этой книги – это эффект узнавания ключевых тем, тропов, мотивов, метафор и символов иммигрантской диаспорной феминистской литературы, которые вместе с тем обретают в тексте свои особые черты, которых не найти в афроамериканской, карибской, латиноамериканской традициях, в постколониальном феминистском и квир-романе. Глория Ансальдуа, Сандра Сиснерос, Тони Моррисон, Элис Уокер, Одри Лорд, Эдвидж Дантика, Арундхати Рой, Ивон Вера, Джамейка Кинкейд стоят за спиной Еганы Джаббаровой, но не мешают звучать ее собственному голосу в сложном созвучии феминистского письма. Так, мечта о голубых или зеленых глазах отсылает нас к первому роману Тони Моррисон «Самые голубые глаза» с его темами насилия, страдания, сиротства, смерти, перекликающимися с готовностью ради светлых глаз иметь в предках белую рабыню, обеспечивающую вход в мир белой красоты через двери насилия. А сама гибридная форма исповедального письма Еганы Джаббаровой близка к знаменитой биомифографии Одри Лорд «Зами: как по-новому писать мое имя» (1982), где автобиографический элемент так же уравновешивается мифическим и мифотворческим, а личное свидетельство, в котором тело выступает в активной роли творца и одновременно архива пережитых травм, перерастает рамки фактографичности, превращаясь в обобщение или троп.
Болящие и зудящие скобы, которые скрепляют череп героини повести, есть и у самого текста. Возможно, наиболее внушительная и болезненная скоба – это по-фаноновски прямолинейная и яростная мысль о жестокости несвободных, о насилии и черствости как форме компенсации за собственное бесправие. Прежде всего это касается мужчин, вымещающих собственные комплексы и унижения на зависимых от них женщинах и детях. Длинная вереница подобных героев переходит из одного феминистского постколониального текста в другой. Важным лейтмотивом здесь являются взаимоотношения матери или отца и ребенка, как одного из многочисленных «порабощенных» несправедливого мира. Самые очевидные параллели к повести Еганы – это «Автобиография моей матери» (1996) Джамейки Кинкейд с ее жестким авторитарным образом отца, выкроившего себе определенную нишу во властной иерархии колониальной культуры, и «Полевые исследования украинского секса» (1996) Оксаны Забужко. Правда, в них в большей мере акцентированы политические и социальные элементы саморазрушительной ярости, жестокости, коротких вспышек негативной свободы загнанных в ловушку героев. Порожденные бедностью, унижениями, навязанным комплексом вечной жертвы, страхом, выстраиваются уродливые отношения мужей и жен, детей и родителей, вымещающих на слабых собственную виктимность, бесправие и разочарования, воспитывающих в них покорность. У Забужко эта тема обрела еще и советско-патриархатный привкус в жестком развенчании фигуры проведшего полжизни в лагерях и сломленного страхом «тунеядца» отца, как основы негативной самоидентификации дочери в мире, где можно быть только жертвой или палачом. Текст Еганы Джаббаровой невозмутимо сообщает нам порой о не менее страшных фактах, но он при этом лишен безысходности дихотомии жертвы и палача. Напротив, сам акт его написания и есть попытка вырваться из этой дилеммы, и как мне кажется, успешная.
Книга еще раз напоминает нам о повторяющемся из поколения в поколение отсутствии выбора или выборе ради выживания и многолетней тоске по несбывшимся жизням. Это так и не выучившаяся на врача мать, не ставший дальнобойщиком отец и несостоявшийся географ дед. Лишь сама героиня, невзирая на немыслимые препятствия, упрямо становится той, кем хочет, хотя и платит за это очень высокую цену, а болезнь ее по сути предстает не просто как следствие домашнего насилия отца, а как своеобразная жертва, принесенная за всех (про)молчавших предков и современниц. Это материализованная боль нескольких поколений женщин ее семьи, скованных страхом и, как следствие, молчанием. А болезнь выступает как эманация этого страха и молчания. Принужденный к молчанию в конце концов разучивается говорить. Мироздание наказывает его тем, что отнимает у него эту способность. И вернув ее через боль и страдания, авторка решает не молчать, а писать. В этом, на мой взгляд, и состоит основной ре-экзистенциальный посыл книги.
Вообще, повесть Еганы Джаббаровой – это книга, написанная вопреки. Вопреки гетеропатриархатной культуре, которая запрещает женщине писать, иметь голос, свое мнение, возражать, вопреки болезни, которая так предательски проделала всё это с героиней еще раз, отобрав способность говорить, дышать, существовать, но главное, вопреки яду нелюбви, который испускают окружающие, отравленные этим ядом сами и распространяющие его дальше, включая и женщин, зараженных мизогинией и строго хранящих «правила, когда-то придуманные для них». Это особенно усиливается в диаспоре, которая ощущает себя во враждебном окружении и пытается сохранить традиции и даже усилить и иногда переучредить их в еще более строгом варианте. Отсюда и не поддающееся пониманию отношение матери к дочери – нечувствительность к ее страданиям, стремление скрыть ее болезнь ради социально одобряемого замужества, молчаливое согласие с превращением девочки, девушки, женщины в товар (не носи очки, не бери трость, сними белые легинсы, прикрой остриженную после операции голову в шрамах, чтобы скрыть, что ты испорченный товар). Искалеченные души, дисциплинированные тела родных, их психологический садизм вызывают у авторки сложное и противоречивое чувство, близкое к любви-ненависти к Югу у фолкнеровского Квентина Томпсона из романа «Авессалом, Авессалом». Парадоксальная любовь-ненависть позволяет героине всё же любить своих родных, даже когда они жестоки, ограничены и черствы, не оправдывая, но и не проклиная. В окружении враждебности и опасности внешнего мира, воспринимающего героиню и ее родных как «врагов, сосуды для ярости, тех, на ком вымещают злость», и в условиях постоянной необходимости бороться за жизнь, такое великодушие вызывает уважение.
Любовь берет верх в героине, вероятно, не только в силу испытания болезнью, но и благодаря прививке любви, полученной в детстве от деда, и межпоколенческой связи с уже ушедшими предками. Это связь через виртуальную любовь, которую можно почувствовать в выражении глаз на фотографии, уловить через вкус приготовленных заботливыми женскими руками блюд, сшитых ими платьев и приданого. По сути, это безмолвные знаки любви, которые были для женщин семьи героини формой творчества и самовыражения. Не случайно, она прямо говорит и о том, что дедушка научил ее любви как «способности читать чужие тела, видеть доброе в обыкновенном, светлое в темном». Важной в книге поэтому является дихотомия между умением и неумением любить, причем не бога, а человека, мир. Эта способность отчасти компенсирует героине отсутствие понимания с родителями, сверстниками и окружающие ее глухую ненависть или равнодушие. А главным способом выразить это умение становится писательство, слово, как свидетельство любви к миру, к себе, к другим людям и живым существам. Право на любовь посредством слова и на то, чтобы оставаться собой, сохранять свою индивидуальность вместо навязываемой необходимости приносить себя в жертву богу, племени, семье – один из главных смысловых узлов повести. При этом авторка прекрасно осознает темную и опасную сторону этого стремления и стоически принимает ее: выбирая самостоятельность и свободу, человек утрачивает связь, поддержку и защиту общины, становится одиноким и уязвимым.
В повести нет типичного для диаспорной и иммигрантской литературы противопоставления красочного мира оставленной родины, в данном случае Азербайджана и отчасти Грузии, и негостеприимного пространства метрополии. Россия намечена лишь пунктиром, несколькими не слишком приглядными штрихами буллинга, расизма, унижения, оставляющими это враждебное пространство по сути плоской картинкой почти как в «Широком Саргассовом Море» (1966) Джин Рис, где Англия для Берты Рочестер оказывается уплощенным бумажным образом, заключенным между створками охваченного пламенем книжного переплета. И там и здесь метрополия так и не стала реальностью для героини. Это искусственное враждебное пространство, в котором всегда надо быть начеку, потому что ты враг. Типичный для диаспорной литературы мотив несбывшегося возвращения домой выливается в повести в размышление о пограничном уделе мигрантов, которые не могут стать своими в России и уже перестали быть своими в Азербайджане. Но всё же между степенями и формами их инаковости существует разница. В России это полная дегуманизация и превращение в абсолютных, неассимилируемых иных. В Баку это роль неабсолютного, обрусевшего чужака, который подлежит осуждению, корректировке, но не дегуманизируется всецело, оставаясь заблудшим членом сообщества.
Нельзя не упомянуть и такую важную тему повести, как пересечение онтологического и технологического. Модные сегодня постгуманистические фантазии о киборгах в книге Джаббаровой оборачиваются страшной и удивительной реальностью не в далеком будущем, а в настоящем. Тема инаковости и отторжения иного органично перетекает из политической и этнонациональной в технологическую и биомедицинскую область. Героиня уже после первого эпизода болезни становится чужой самой себе, не узнает свой собственный голос, тело перестает ее слушаться. А превращение в киборга по сути возвращает ее к собственному «я», позволяет обрести себя заново. Галерею киборгов в результате ранений и несчастных случаев открыл еще в XIX веке никто иной, как Эдгар Аллан По, написавший сатирический рассказ о бравом генерале «Человек, которого изрубили в куски» (1839). В 1944 году феминистка Кэтрин Люсиль Мур опубликовала полемическую повесть «Нет женщины прекраснее» о танцовщице, пострадавшей от пожара и получившей от современного Франкенштейна тело киборга, сохранив только свой мозг. Но все эти литературные эксперименты безусловно бледнеют на фоне фактологической реальности и вместе с тем притчевой символичности истории Еганы.
Болезнь – а не стремление к власти или научное любопытство – порождает здесь киборга поневоле. Это не киборг-сверхчеловек и не киборг, созданный в качестве эксперимента, а неизлечимо больной человек, который, обретая черты машины, не утрачивает при этом человеческих. Героиня горько шутит, что она управляется теперь пультом как игрушечная машинка, от этого зависит ее жизнь: «У меня теперь есть пульт от меня». Будущее из киберпанковского романа вторглось в ее жизнь здесь и сейчас, не оставив выбора. Егана очень точно и просто выразила этот техноонтологический переход, над которым бьются новые материалисты и постгуманисты вот уже много лет: «Мое тело стало функциональным и управляемым, как бытовая техника, на смену экзистенциальному ужасу пришла бесконечная тревога за благополучие механизма». Но в том то и дело, что всей книгой она показывает, что экзистенциальная тревога есть родовое свойство человека и никуда не девается, даже если снабдить его пультом управления. Эта тревога лишь усиливается технологической зависимостью.
И всё же это жизнеутверждающая книга. Да, ее страшно и временами тяжело читать, особенно сцены домашнего насилия, к тому же представленные глазами детей, через их ощущения. Но в повести есть лейтмотив преодоления и пересобирания мира и себя. И камертоном этого действия служат слова уже ушедшего в иной мир и навестившего внучку перед операцией дедушки о кукурузе, которую ей доведется еще долго собирать. Книга Еганы Джаббаровой – это не жалоба на мир и людей или на злую судьбу, а стоический рассказ о том, как выстоять вопреки всему и стать той, кем хотела, как едва ли не первой в своей семье, не следовать за жестокими обстоятельствами, а сделать свой выбор. Медицина бессильна вылечить героиню, а чудесный стимулятор может только замаскировать ее болезнь. Подлинным же магическим, целительным актом является написание самой этой повести, утверждающей непобедимость жизни и любви, вопреки всему.
Линчёпинг, 23 июня 2023 г.
Заказать книгу можно по ссылке.