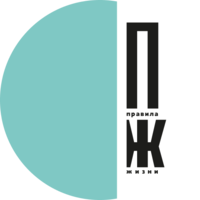Вдохни поглубже. Ничего пока не делай, ты не готова. Когда будешь готова? Никогда...
«Право дышать и истекать кровью»: рассказы Сьюзен Сонтаг впервые на русском

Значит, пора начинать.
Не начинай, даже не думай, это слишком трудно. Нет, слишком легко.
Дай-ка мне начать, оно и так уже началось, теперь придется догонять.
Да не так, глупышка. Ишь, примостилась на краешке стула, кто ж так начинает? Сядь как следует.
Не расхолаживай меня, разве ты не видишь, что я уже завелась? Дышу глубоко, настроение приподнятое... орудия труда наготове. Ручка, карандаш, пишущая машинка, компьютер?
Тебе ничего не стоит всё испортить, сама знаешь. Такие дела требуют времени. Нужно подготовить почву. Остальные уже навострились, ждут твоего появления.
Ты хочешь сказать, вторжения. Требований, просьб. Имеешь право, я это признаю. Дыши глубже.Право дышать? Спасибо. Как насчет моего права истечь кровью? Не останавливая кровотечения, не перевязывая. Дай попробую. Просто не обращай внимания.
***
Действие первое. Картина вторая. Нахмуря лоб, вытирая вспотевшие ладони, Татьяна садится в спальне за стол писать письмо Онегину. После приветствия задумывается. Что дальше? В конце концов, виделись они лишь один раз, внизу, несколько дней назад, и хоть она не отрывала от него взгляда из укромного наблюдательного пункта у подоконника в оранжерее, однако едва поднимала глаза выше блестящих пуговиц сюртука. Она вся горит: ей не терпится высказаться. Она просит няню приготовить чай. К чаю няня приносит пирожки со сладкой начинкой. Татьяна хмурится и снова садится за письмо. Она рисует в пространстве образ Онегина; он тает, тускнеет, отдаляется. Ее томит невысказанное признание в любви. Она начинает петь.
Ветер гремит ставнями, и скрипучее гусиное перо Евгения быстро порхает по бумаге, будто рыбка машет плавником.
«Дражайший батюшка, давно я хотел высказаться пред Вами, да не отваживался. Может, наберусь смелости написать. Хоть в письме побуду храбрым».
Дальше начала дело не идет. Евгений тянет, постоянно откладывает объяснение. Письмо будет очень нудным, обличающим, по крайней мере так ему представляется. Он подбрасывает поленьев в огонь.
***
Завтра его повесят. А сегодня, после особого ужина его товарищи в соседних камерах всю ночь будут петь гимны и песни о свободе, чтобы его поддержать. Дюмейн сидит на цементном полу камеры три на четыре метра, подтянув колени с листом бумаги к груди, зажав между тремя изувеченными пальцами левой руки огрызок карандаша, — правая рука сломана, — и медленно, усердно выводит печатными буквами последние слова.
«Когда ты будешь читать это письмо, я уже уйду из мира живых. Мужайся. Я спокоен. Мбангели и я верим, что наша жертва не напрасна. Не оплакивай меня слишком долго. Выходи замуж. Я так хочу. Утешь бабушку. Поцелуй за меня детей».
В письме куда больше слов, нацарапанных кривыми печатными буквами, но вот основные моменты. Письмо заканчивается так: «P. S.: Дорогая дочурка, помни, что папа любит тебя и хочет, чтобы ты выросла похожей на маму. Дорогой сынок, позаботься о маме, она нуждается в твоей помощи, хорошо учись, пока не займешь достойное место в нашей справедливой борьбе».
***
Подумать только, все эти простодушные письма она набросала между делом, между мучительно медленным сочинением замысловатых серьезных романов и эссе, которыми прославилась. А теперь вышел двухтомник писем, который называют настоящей жемчужиной ее творчества. Очаровывает не только ее вдохновенная речь, всех трогает идиллический портрет любящей семьи, из которой она вышла. Неужели такие дружные семьи до сих пор существуют? Это в наше-то время?
Никто не знает о полных горечи письмах к сестре, которые вдовец сжег на барбекю. Мир устал от разочарований, от грязных разоблачений, мир изголодался по образчикам чистоты. Наш мир. Никто, как он, ее муж, больше не узнает о ее героическом сопротивлении ужасной болезни в последние месяцы, когда опухоль мозга лишила ее речи и он стал писать письма вместо нее, от ее имени, так, как написала бы она. Теперь он охраняет ее репутацию, видит ее работу изнутри, чего она не допускала, пока была жива. Он будет столь же требователен, как она. Какому-то не очень известному профессору вздумалось написать ее биографию; он еще не решил, стоит ли с ним сотрудничать. Корреспондент газеты с Дальнего Востока пишет ему слезливое письмо о «невосполнимой утрате для литературы». Он отвечает, завязывается переписка. Вдруг это ее давний любовник?
Из Гонконга приходит связка ее писем, шестьдесят восемь конвертов, перевязанных красным шнурком. Он их читает. Она ли это? Удар под дых: такой он ее не знал.
***
Действие первое. Картина вторая. Татьяна залпом выпивает принесенный няней чай и, запустив левую руку в вырез, растирает большим пальцем прелестное плечо. Письмо только начато. Казалось бы, достаточно самозабвенно излить душу, но нет, ей хочется получить ответ.
«Ты на меня даже не взглянул», — упрекает она на первой странице. И в середине второй: «Хочу спросить, думаешь ли ты когда-нибудь обо мне». Потом заливается слезами и (не в поэме и не в опере, нет, в жизни) начинает писать заново. В опере ее захлестывает чувство и несет до финала.
***
А вот и я со своими неизменными чувствами, по крайней мере такими они кажутся, и тут же становится понятно, что всего этого могло бы и не быть. Как и нашего знакомства.
В шестиэтажке, где мне крупно повезло найти квартиру по более или менее стабильной цене, произошел пожар, ничего серьезного. В квартире на пятом этаже наркоман поджег диван, набитый конским волосом. Повалил дым, черный едкий дым, ничего серьезного. Я продрог, выскочив без пальто на улицу, а ты бросала монетки в автомат с газетой Times. Так мы познакомились. Увидев, что я на тебя смотрю, ты спросила о пожаре. Ничего серьезного. Мы прошли мимо пожарных машин, чтобы попить кофе на другой стороне улицы. Это было в январе прошлого года, теперь я спрашиваю серьезно. Почему ты меня бросила? Неужели тебя не обижает его безразличие? Что это за белая бумага у меня на столе? Я хотел написать тебе письмо. Могла бы ты полюбить меня снова, как думаешь? Но нет, наверное, писать не буду.