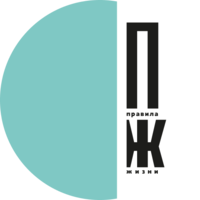Когда вы впервые прочитали Аркадия Драгомощенко и что в нем оказалось самым непривычным для вас как для читателя?
«У него был дар недоумения»: Елена Костылева — об Аркадии Драгомощенко и письме без героя
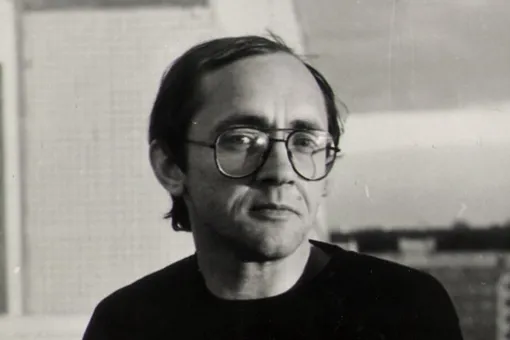
Я сначала встретила его: нас познакомил в Москве режиссер Саша Зельдович. Дело было в «Улице О.Г.И.», я была в платье с открытыми плечами, и Аркадий просто подошел и обнял меня за плечи. Это оказалось крайне непривычным для меня как для читателя. На самом деле мне сложно ответить на ваш вопрос. Я подумаю еще.
Можно ли сказать, что Драгомощенко не столько писал тексты, сколько создавал ситуацию мышления?
Он писал и переписывал каждый текст каждое утро. Не уверена, что его интересовало мышление в его строгом философском виде — скорее его подташнивало от него. Его увлекал Бланшо — поэт от философии, Витгенштейн — логик языка, — такие люди. «Мышление» как рациональность его не шибко влекло — для этого он был слишком живой.
В чем, на ваш взгляд, его главное отличие от других поэтов ленинградского андерграунда?
Поэты всегда слишком сосредоточены на себе. Он — на письме. Это другое. Кстати, мое письмо он критиковал за то же самое «вульгарное "я"» — говорил: не пиши «я», это вульгарно просто-напросто.
На самом деле эта фраза — ключ к его письму: поэт становится не точкой, не пупом Земли, а лишь пересечением линий — письма других, света с балкона, пылинкой в бытии. Никакого «я» не существует и никогда не существовало — или не будет существовать вот-вот. И жалеть тут не о чем.
Если говорить об отличии, — о да, оно было. Взять хотя бы Кривулина или Аронзона, или Шварц, да даже Кондратьева или Филиппова — они были настоящими лирическими поэтами, вскармливали своего героя. Драгомощенко было это чуждо, он просто «не понимал» этого, у него был дар недоумения. Он доверял словам, не людям. Слова несли с собой смысл, люди — максимум восторг, тепло.
Многие говорят, что у Драгомощенко язык как будто думает сам. Как вы это понимаете?
Читатель ничего не понимает, и это нормально. Да и нужно ли «понимать»? Можно ли, к примеру, «понять фильм» или можно лишь увидеть его?
С поэзией Аркадия все сложно: к ней нет единого подхода или метода, благодаря которому мы сказали бы: «Я прочел и понял его». АТД, как он подписывал свои письма («Аркадий Трофимович Драгомощенко»), — это процесс, это всегда несовершенная форма глагола.
Сказано — не значит закончено. Это значит всего лишь, что сказанное не может быть пересказано никаким другим способом. В этом ценность этих стихотворений — их нельзя пересказать, напеть, иногда трудно даже вспомнить. Это как морок, сон, вязь букв.
Не нужно сопротивляться этому движению глаз по строчкам, расфокусировке, но можно длить ее. Это немножко как любовь.

Если попытаться очень просто: зачем сегодня возвращаться к Драгомощенко?
Дело в том, что то, что внес в литературу Драгомощенко, оказалось самой свободной из форм. Возможно, из-за контактов с американской лингвистической школой, а возможно, и независимо от этого общения он разрабатывал прежде всего форму — форму поэзии без лирики, поэзии без «я».
При этом он фундаментально отъединил свое философское письмо от концептуализма и других передовых течений XX века. Где же он оказался? В «нигде» и в «ничто», в поэзии как таковой — как в идеальной пустой форме, могущей быть заполненной свободными содержаниями. Кто же откажется от такого?
Он не планировал становиться классиком, жил бедно и скромно. Время решило за него.
К 80-летию Аркадия издательство «Пальмира» допечатало три книги, тираж которых сразу кончился: роман «Расположение в домах и деревьях», сборник «Пагубная страсть к театру» и книгу стихотворений «Великое однообразие любви». А в издательстве Jaromir Hladik Press вышли сразу две книги: «Ужин с приветливыми богами. Небо соответствий» Аркадия Драгомощенко и «Сыр букв мел» Александра Скидана.
Так что можно сказать, это не мы возвращаемся к нему — это он возвращается к нам.
Можно ли сказать, что поэзия у Драгомощенко — форма сопротивления готовым идентичностям?
Да, так сказать можно. Будет ли это иметь смысл — другой вопрос. И зависит он от того, что такое «готовые идентичности».
Но, определенно, поэзия Аркадия — это форма сопротивления всему «готовому», отказ от «готового» в пользу вечного поиска, скольжения, движения. Его стихи мерцают и дышат, распадаются и сходятся прямо под рукой, плавятся под веками и снятся.
Часто снится и он — в белых штанах, высокий, с вином.
Драгомощенко часто называют поэтом «второй культуры». Что это за пространство?
Мы в нем живем, оно нас и спасает: прячет и питает, укрывает и приоткрывает эндемической плесенью, поит молоком белых ночей — щедро, денно и нощно. Это Петербург, тут так.
Без этого не проживешь: коммерциализированная или официальная культура других больших городов бесплодна, у нее отсутствует вот этот «второй слой» — защитная микрофлора.
Вы были в «Борее»? Там часто бывал Драгомощенко. У Тани в банке там такой шикарный чайный гриб растет, я все мечтаю попросить у нее детку и завести свой.
И последний вопрос: что сегодня для вас важнее: говорить, слушать или переписывать себя?
Для меня важнее всего читать других.