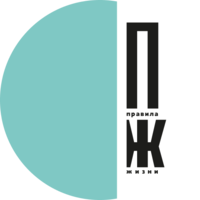В свой последний день Ханна Арендт, как и должно философу, говорила об истории и о политике.
Семидесятые: живые и мертвые. Ханна Арендт и Алексей Цветков

Последние недели своей жизни она почти все время проводила дома. Со здоровьем было неладно, ей тяжело давались прогулки по улицам. За неделю до смерти она, подходя к дому, поскользнулась и упала на асфальт. Собрав волю в кулак, она смогла подняться, отказавшись от помощи окружающих (ее девиз всегда звучал так: «Kein Mitleid» — «Никакой жалости»), и медленно, но без поддержки зашла в дом. Друзьям об этом инциденте она почти не рассказывала, а говорила о том же, о чем и всегда, — о текстах, о мыслях, о политике.
В свой последний день она пригласила двух близких друзей в гости и угощала их обедом. Они говорили с ней о работе, о знакомых исследователях, об историке Филиппе Фридмане. Все должны были приступить к послеобеденному кофе, как вдруг Арендт закашлялась, села в кресло в гостиной — и больше с него уже не встала. Прибывший врач разминулся со смертью — Ханна Арендт умерла почти моментально.
В печатной машинке осталась заправленная страница: перед тем как принять гостей, Арендт работала над последней главой своей последней работы. Недописанную «Жизнь ума» нашли в бумагах покойной, в ней Арендт излагала свои взгляды на человеческое мышление.
Одна из самых известных философов XX века, Арендт всю жизнь была фигурой и современной своей эпохе, и выпадающей из времени, ускользающей от него. Очень часто она, выбирая из двух вариантов, умудрялась найти третий — и пойти путем, который совсем не был очевиден.
Еврейка из Кенигсберга, выросшая в буржуазной ассимилированной семье, она выбрала для себя сложное направление: стала изучать философию в немецких университетах, славившихся в тот момент своими консервативными настроениями. И такой путь вовсе не заставил ее стать фронтменом женского движения — напротив, она его критиковала за то, что оно не вышло на политический фронт, который так и остался мужским, а также за чрезмерную абстрактность требований, превращение в корпорацию по признаку пола и неспособность предложить конкретные, измеримые цели.
В этом вся Арендт — она никогда не боялась пойти наперекор своей судьбе, классу, окружению. Общественное мнение не заставляло ее отступаться от своих идей и мыслей.
Это здесь ключевое: Арендт воспринимала мир как античный философ, считая, что именно публичное действие является самым главным и достойным занятием для человека. Не биологическое выживание и набивание брюха, не производство и потребление, выплавка чугуна или добыча нефти, а только публичное действие, политическая или общественная активность. Такое действие создает новые связи между людьми, меняет мир вокруг нас — словом, у каждого действия есть потенциал чуда.
И потому для нее всегда было важно быть и действовать, а не таиться и подстраиваться. Важно сделать свою жизнь рассказом, историей — и тогда получится реализовать свой человеческий потенциал.
И как часто она оказывалась не ко времени, не к месту. Как часто шагала не в ногу. Женщина в предельно мужской среде академической философии. Германизированная еврейка, убежавшая из нацистской Германии и оказавшаяся в лагере, потому что французские власти подчинились немецким требованиям и отдали евреев. Апатрид в Америке. Антисионистски и до какой-то степени антиизраильски настроенная еврейка в американские 1950–1960-е годы. Арендт не кажется самым очевидным приверженцем контркультуры и панка, но очень часто вела себя именно так, как полагается человеку, плюющему на мейнстрим. На каждом вираже Арендт оставалась верна своим принципам: даже в те годы, когда, как беженка-апатрид, она не обладала почти никакими правами, она была активна — и как философ, и как общественный деятель. Если ты активен политически, значит, ты существуешь — так бы, вероятно, она могла перефразировать Декарта.
И если представлять ее жизнь как историю, то о чем она нам расскажет?
Важно не озлобляться. 18 лет она была человеком без прав и без паспорта, убегая из родной страны (где ей вместе с матерью довелось оказаться в гестапо), а потом — из приютившей ее Франции, чтобы завоевать свое место в Америке. Такой опыт может сломать и озлобить многих. Но не ее: Арендт переплавила его в работу — и в тексты. Ее работа «Истоки тоталитаризма» была опубликована в 1951 году, и, конечно, в ней переплавился опыт этих мрачных лет. В предисловии к первому изданию она намекает на это:
«Все попытки вырваться из мрачной реальности настоящего — будь то в ностальгию по еще не разрушенному прошлому или в заранее предвкушаемое забвение лучшего будущего — тщетны».
Да, вот это еще одно важное слово — «реальность». Арендт — великий реалист и гуманист; весь ее взгляд на мир, в общем-то, построен на том, что она предлагать смотреть на реальность как на данность, не считая правильным поиск и противопоставление ей некоего идеала. Она верит в людей — для нее весь мир представляет собой взаимосвязи между отдельными людьми; она верит в консенсус как основу власти; она презирает насилие как метод, потому что оно как раз рвет ткань реальности, уничтожает тонкие нити, что идут от человека к человеку. И она никогда не забывала этот свой взгляд подчеркнуть.
В межвоенном Берлине не боялась критиковать коммунистов. На судебном процессе над Эйхманом отметила, что перед ней оказался не монстр, а скучный бюрократ, унылый счетовод, ставший проводником в жизнь экстраординарного зла, а еще заявила о своем скептическом отношении к Израилю как мононациональному государству. В бунтующие 1960-е критиковала тех, кто призывал к насилию как способу построения нового мира. А в 1970-е отметила, что и либеральное западное общество легко может породить в себе тоталитаризм, если увлечется политическим пиаром вместо правды и фактов. Каждый раз она оказывалась под прицелом — и каждый раз реальность и правда были ей важнее условных «лайков» от общества или от конкретных знакомых.
Ее книги умеют прорастать в голове, будто раскидистые деревья: тоталитаризм как система, публичное действие как ядро человеческого, банальность зла. Но рядом с этими философскими готическими соборами всегда можно найти и другие вещи. Например, маленькая сценка из жизни внезапно становится кратчайшим путем к пониманию ее мысли: упасть у подъезда и подняться без помощи; Kein Mitleid; работа, продолжающаяся и в последний день жизни. Деталь не заменяет идеи, но зримо нам преподносит.
И в этом ее качестве есть то, что роднит ее с человеком, родившимся в том году, когда она умерла. Это перекликается с тем, как устроено мышление российского философа Алексея Цветкова.
Читавшие прежде всего его публицистику наверняка обращали внимание на странный ее эффект: из каждого эссе, статьи, листовки, манифеста запоминается не ключевая мысль, не тема, а побочный образ, настроение, едва проговоренный намек, которые в текст вставлены как будто украшения, а то и словоблудия ради. Но через какое-то время ты понимаешь: в этом и вся суть.
У Цветкова есть базовое в смысле неизбежности для любого левого эссе про RAF — немецкую «Фракцию Красной армии», символ «свинцовых семидесятых». Но запоминаются два предложения из начала и конца — классическая закольцовка текста. «2-го марта 1975-го, пока я делал первые в своей жизни глотки таежного воздуха в Нижневартовске, немецкие анархисты безо всякого суда покинули тюрьмы, безо всяких билетов сели в лайнер "Люфтганзы" и свободно отбыли на восток», — пишет Цветков в начале текста, и ты думаешь, ой, как интересно совпало, но уже к середине текста про это забываешь. Но вот концовка текста, и Цветков его ставит с ног на голову, опрокидавыет читателя на лопатки вопросом: «Какого ты родился числа? Что произошло в этот день?» Весь текст оказывается совсем не про RAF, а про время и место, почву и судьбу каждого из нас. Почему, где и когда мы родились, а главное — для чего?
Цветков родился во времена глубокого излета левого проекта XX века и мог бы прожить совсем другую жизнь — уж для представителей его поколения возможностей изменить судьбу было предостаточно, — но Цветков стал уличным анархистом, затем левым интеллектуалом, а главное, интерпретатором современной культуры и наблюдателем за ней из России.
Из другого текста Цветкова: «У всего есть цель. Всё летит как стрела, желающая поразить свою мишень и тем оправдать себя...
— И что же такое, по-вашему, диалектический материализм? — спросил меня на экзамене преподаватель философии, узнав о моем немодном увлечении.
— Это лучший способ узнать цену любой метафизики.
Профессор усмехнулся и поставил мне четыре. Он был поклонником Генона и "новых правых"».
В короткой сцене — суть интеллектуального и политического выбора Алексея в 1990-е годы. Пока профессор — а он наверняка был бывшим преподавателем марксизма-ленинизма и диалектического материализма — кичится неофитским увлечением «возвращенными именами», 20-летний Цветков держит оборону на баррикаде из синих томов полного собрания сочинений Ленина. И тут уже не возникает вопросов, кто здесь настоящий бунтарь и контркультурщик.
Ключевое слово сказано — контркультура. Цветков не был единственным, не был самым талантливым, но оказался самым влиятельным и глубоким интерпретатором контркультуры, великого отказа — попытки молодежи второй половины XX века переделать мир под себя. Над этим легко иронизировать в нашу мрачную эпоху. Но можно и завидовать. Мы-то сейчас в силах отказаться, и то временно, не устанавливать какое-нибудь навязываемое нам мобильное приложение — это граница нашего реального бунта. Цветков же никогда не отрицал, что работает над левым архивом, чтобы в будущем было с чего начинать. Он уверен, что будущее настанет, хотя сейчас и делает вид, что стал немного в этом сомневаться.
При таком выборе в выпавшее ему время жизни можно было и самому превратиться в архив, стать чем-то затхлым и неинтересным, но зато преисполненным чувством собственного величия. Или того грустнее — войти в какую-нибудь телеграмную сетку и публиковать посты с еридами, написанные от первого лица. Но нет, Цветков менял интеллектуальный ландшафт вокруг себя, придумывая — где в одиночку, а где коллективно — языки, образы и символы для описания окружающей реальности. А все наследие прошлого шло как горючее в эту топку. Запрещенная газета «Лимонка», книжная «оранжевая серия» «Альтернатива», издательство «Ультракультура», работа в самых главных книжных магазинах страны и общение с их читателями как служение — мы перечисляем только ту деятельность Цветкова, которая важна участникам издания «Кенотаф». А она — шире. Больше. Для кого-то Алексей прежде всего поэт. Для кого-то товарищ по тревожной молодости.
40 лет прошло в пустых кипениях, одни властители дум сменяли других и ничего после себя не оставляли кроме пустоты и апатии у людей, тративших на них свое время. Цветков сознательно прожил свою жизнь под радарами, и он до сих пор где-то там же, и кажется, что он оказался умнее и дальновиднее всех. Иной раз достаточно просто поговорить с людьми о книгах, чтобы мир на нанометр, но изменился, — вот это Цветков хорошо знает. И в этом его главный урок здесь и сейчас.
Тут впору вспомнить великую притчу о посеянных зернах — в конце концов к ее содержанию и морали сводится оценка роли всех интеллектуалов в обществе. Чтобы быть таковым, недостаточно просто критиковать, подвергать сомнению, интерпретировать и задавать ориентиры. Важно думать о плодах этих трудов на средней и долгой дистанции. А плоды в нашем случае сейчас такие, что хочется, чтобы Цветкова знали и читали. Поздравляем всех, кто прямо сейчас вобьет в поиск «Алексей Вячеславович Цветков». Возможно, это будет тот самый день.