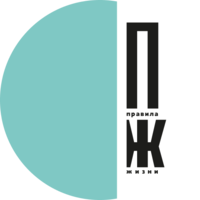В школе у меня была подруга Кристина. Мы жили в соседних домах, наши мамы были знакомы, и мы знали друг друга с детства. Мы были не разлей вода, по полдня гуляли вместе (особенно когда меня деликатно выставляли за дверь), а когда приходили домой, созванивались и болтали по несколько часов. Учились в одном классе, и учителя даже разрешали нам сидеть за одной партой.
«Зачем взрослеть, если мы все умрем?» Фрагмент из романа Екатерины Янсон «Уродины»
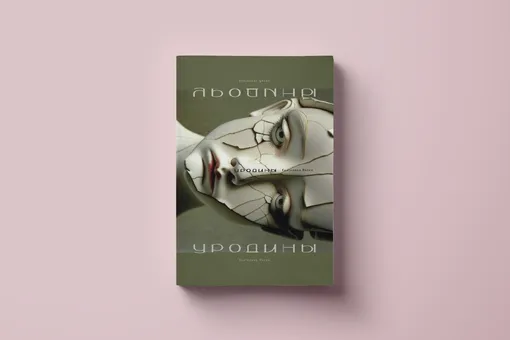
Четырнадцать
Но, к сожалению, мы выросли. Лет до четырнадцати я даже не задумывалась о красоте. Да, мама говорила, что я толстая, но разве это проблема, думала я. Ну, полновата, с кем не бывает, можно похудеть. И вообще я еще ребенок, «растущий организм», как говорила бабушка, мне надо расти, есть!
А вот Кристина была идеально стройна и ела без конца... Первое, второе, третье, десерт — и ничего! У нее были слегка вьющиеся светлые волосы, большие голубые глаза — все это отлично гармонировало с худобой. В классе седьмом-восьмом мы все стали стремительно расти, кто-то вверх, я вширь. Кристина была миниатюрной, миловидной, начала краситься, а мальчики — предпринимать неловкие попытки флирта. Я гордилась, что у меня такая подруга. А когда я ее звала домой, мама разговаривала с ней серьезно, как с взрослой, и забывала обо мне. Мне только это и было нужно, ради этого минутного спокойствия я могла и потерпеть последующие «Посмотри на Кристину, как она хорошо выглядит/одевается/подает себя, не то что ты!».
Сама я тогда начала носить очки, которые мне, как я думала, шли. Потихоньку выросла до метра семидесяти, мне нравилось быть высокой, но вот стремительно появляющиеся округлости умаляли мою радость. Это не входило в мои планы. Я не понимала, что со мной происходит. Я хотела быть худой, незаметной, прятаться за швабру... Смотрела на Кристину, на других — худые, тонкие, полупрозрачные.
Но тогда я была уверена, что мы все безобидные дети, все разные, зачем с кем-то себя сравнивать? Да, мама не считает меня красивой, но может, кто-то другой посчитает? Я даже решила позвать гулять мальчика, который мне нравился. Его звали Даня, он сидел на последней парте, был высоким спортсменом, много смеялся и нравился всем без исключения, даже учителям. С тех пор, как он пришел в наш класс, я старалась чаще проходить мимо его места (я сидела на первой парте, потому что была слепее Поттера), но безрезультатно.
Кристина постоянно спрашивала меня, почему я ни с кем не гуляю, у нее-то поклонников было хоть отбавляй, она даже жаловалась, что не успевает встречаться со всеми, и предлагала поделиться. Но я все ей прощала, потому что была очарована и верила в благородство красивых людей (считая маму печальным исключением). Я рассказала ей про свои неловкие попытки обратить на себя внимание Дани. Кристина внимательно выслушала и посоветовала действовать.
— Пригласи его сама погулять после школы, — участливо предложила она.
Пару дней я мучилась от нерешительности, а потом Кристина заболела, и ко мне подсадили Даню. Лучше бы я сама заболела в тот день.
Я не успела опомниться, как он бросил на парту свою неопрятную тетрадь, тут же попросил у меня ручку. Я сидела весь урок как на иголках. Старательно делала вид, что ничего не происходит, что никто мне не нравится и вообще я увлечена решением уравнений. В конце урока я небреж- но (как мне казалось) спросила его:
— Может... погуляем после школы?
— С такой уродиной? — ответил он громко и засмеялся на весь класс.
Когда я позвонила Кристине вечером, она почти ничего не сказала. Долго молчала. Я подумала, как же сильно она болеет. А когда она пришла в школу на следующий день, то села почему-то за последнюю парту. При встрече сдержанно здоровалась и проходила мимо. Потом я видела, как они с Даней держались за руки, а когда увидели меня, громко засмеялись.
Если раньше я была обычной невидимой мышью в очках, то теперь очень даже видимой и некрасивой. Эта добавочная стоимость мне не очень нравилась. По дороге домой я думала, как себя ненавижу. Почему я не Кристина, почему такая, какая я есть? Ей бы никто не посмел сказать такое. Она была не красавица, но ее миловидности, обожаемой мальчишками, и непринужденного обаяния хватало для того, чтобы ей все сходило с рук. Она была так самовлюблена, что и другие верили в ее восхитительность. Где учат любить себя, господа? Дайте адрес, что ли.
Тем временем дома меня ждала любящая мать.
— Что с лицом? Нечего мне тут рожи корчить. Опять чем-то недовольна?
— Со мной Кристина не разговаривает, — по глупости рассказала я.
— И правильно, ты ей не подходишь. Ты себя в зеркало видела?
«Толстая корова», — говорили ее глаза. Она тяжело вздыхала, даже если заставала меня с яблоком в руке или просто в радиусе кухни. Когда я входила в комнату, они с «белым воротничком» демонстративно смотрели программы про худеющих или пластическую хирургию и с серьезными лицами обсуждали, как же мне «помочь».
В тот вечер мама больше не обращала на меня внимания, и слава богу. Я закрылась в своей комнате, легла на кровать и погасила свет. Я бы и рада поплакать, только как-то не получалось. Я стала думать, что со мной не так. Ночью мне снилась Кристина, она хохотала и тыкала в меня пальцем. И Даня там был, смеялся вместе с ней.
После этого я стала знаменитостью. Но за этот титул никто не хотел со мной соревноваться.
— Смотри, какие очки!— Зато какая задница, как она только помещается на стул! — Вот это сиськи, а ей точно четырнадцать? Девчачьи, мальчишечьи, даже учительские пары глаз посматривали на меня исподлобья, сверху вниз и обратно. На меня, потом на телефон. Было чувство, что меня раздевают. В золотой век нашей дружбы мы с Кристиной фотографировались в купальниках у меня дома, болтали про надвигающиеся каникулы. Она разубеждала меня, говорила, что я совсем не толстая, что вот такой фасон купальника мне пойдет. Я надевала, она фотографировала, показывала мне. Мне даже не пришло в голову попросить ее удалить что-то. Там была я одна, была и с ней — чтобы был виден масштаб трагедии. И виден он был теперь всем.
Я быстро выросла, и мать часто приходила пораньше, чтобы неожиданно застать меня за чем-то развратным. По ее меркам, я должна была обязательно кого-то водить в дом. И когда она так врывалась, не предупредив, а я мыла посуду вместо того, чтобы прятать в шкаф малолетних (или сорокалетних) ухажеров, неоправданные ожидания злили ее еще больше.
Я стала играть в баскетбол, надеясь избавиться от ненавистных женственных форм и килограммов. Играла не очень хорошо, но так можно было отвлечься. У меня плохо получалось сформулировать, что я чувствовала, однако эти чувства мне точно не нравились. В школе один мальчик нюхал газ и умер. Никто точно не знал, случайность это или нет. «А ведь это выход», — подумала я. Но я не знала, где достать газ, поэтому решила запретить себе чувствовать. Нет чувств, нет проблемы.
Пятнадцать
— Хорошая ночь!.. — послышалось сзади.
Дело было на крыше. Я робко пыталась покончить с собой. Весенний ветер услужливо подул в спину.
— Тихая, ясная! — не унимался голос. — Звезды какие! Видно, завтра хороший день будет.
Я сделала шаг назад. Поежилась. Что ему надо, этому незнакомцу? Оглядела — мужчина неопределенных средних лет, сигарета. Курит, наслаждается огоньками вдали. Как будто и нет меня.
— Вы любите театр? — спрашивает.— Театр? Вы кто?— Да я на пятнадцатом живу, сюда гулять прихожу.
А тут вижу — ты... делом занимаешься! — сказал он шершавым голосом, как у старого кота, ухмыльнулся и подмигнул.
У него были лысеющие виски, щетина, тренировочные штаны.
— Ну так что с театром?
— Я люблю театр, — ответила я, чтобы отвязаться.
— Да ладно! — устало махнул рукой мужик.
— Все так говорят. «Я люблю искусство, театр, литературу...» А кто- то из них на самом деле любит? Да что в твоем возрасте еще можно любить? И как? Только так, ради приличия, мол, смотрите на меня, я тоже, как вы, человек! Тоже люблю, что другие любят. Да ты была хоть в нем, театре-то?
— Была.
— И понравилось?
— Нет, — нахмурив брови, припомнила я.
— А что смотрели?
— «Мертвые души»...
— Вот видишь, а говоришь — люблю! Любить еще научиться надо. А вообще, театр... Я тоже его не люблю. Не понимаю. Ну ладно, — мужик затушил сигарету, подошел к краю крыши. — Ты, наверное, прыгать собралась? А я тут отвлекаю...
Далеко внизу залилась в истерике сирена.
— А чего прыгаешь? Еще не разобралась, что любишь, что нет, а уже... Эх... И что так? Жить тяжело? Ты расскажи, я, может, это... — хихикнул мужик, — компанию тебе составлю.
Не буду отвечать, подумала я.
— Жить не хочешь? А что, погода не нравится? Утром рано вставать? Задают много? Мама любить меньше стала?
— Не надо издеваться! В любом возрасте можно быть несчастным, — с важным видом произнесла я.
— Ну, можно-то оно можно! — вздохнул мужик. — А можно и не быть. Вот ты, например, театр не любишь. А его люди делают, декорации там, репетиции... Актеры целую историю умудряются рассказать. А такие, как ты, приходят и говорят: не нравится! Или наоборот. А понимают они? То есть вы? Понимаете, что там такое в глубине запрятано? В каждом спектакле? В каждой реплике? В каждом бутафорском яблоке на столе? Не знаете. А уже говорите, мол, нравится — не нравится.
— А что там? В яблоке?
— Э, нет! Это надо садиться в зал и смотреть. А так тебе любой дурак на улице скажет, что там за смысл, а там его и нет, может. У каждого своя правда. Внутри она. Вот ее и надо понять.
— А как? — Переступаю с ноги на ногу. Холодает. Пижама еще эта дурацкая, с зайцем. Надо было поприличнее одеться, что ли. Дело все-таки важное, один раз в жизни бывает.
— Ну, как-как... Путем проб и ошибок, так сказать, — ухмыльнулись усы мужика.
— А вы поняли?
— И да и нет... Понял, что достаточно мне... Хватит и того, что уже понято.
— И не ходите в театр?Мужик долго и хитро посмотрел вдаль.
— Нет, не хожу.
— И не любите?
— Театр? Нет, не люблю. Эх, ладно! Поздно уже. Вставать завтра рано. Пойду я. А, и я... вроде как в спектакле играю... Ты если надумаешь, заходи. Спокойной... Ах, да, ты же не... Ну, ты там поосторожнее. — Мужик кивнул на край крыши и пошагал прочь.
Такой странный, усатый, пришел и разрушил весь настрой. Я вспомнила, почему поднялась сюда. Почему так больно? Почему никто не слушает? Все что-то знают, но никто не рассказывает. Зачем это все? Тело это меняется. Очень страшно и непонятно. Почему все злые? Зачем взрослеть, если тут все так плохо, во взрослом мире? Все хуже и хуже? Зачем взрослеть, если мы все умрем? Почему кто- то стоит ночью на крыше, а кто-то обнимается у подъезда? Кто-то задает вопросы, а кто-то просто живет?